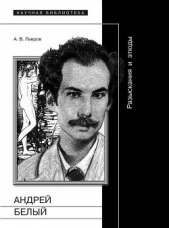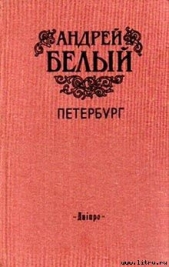Петербург. Стихотворения (Сборник)

Петербург. Стихотворения (Сборник) читать книгу онлайн
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».
Помимо «Петербурга» в состав книги вошли стихотворения А.Белого из сборников «Золото в лазури», «Пепел» и поэма «Первое свидание».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Толпа смела с тротуара и Аблеухова, и Лихутина; разъединенные парой локтей, они побежали туда, куда все побежали; пользуясь давкою, Николай Аполлонович имел намерение ускользнуть от объясненья некстати, чтобы броситься в первую там стоящую в отдаленье пролетку и, не теряя драгоценного времени, укатить по направлению к дому: ведь бомба-то… в столике… тикала! Пока она не в Неве, успокоения нет!
Бегущие его толкали локтями; черные фигурки выливались из магазинов, дворов, парикмахерских, перекрестных проспектов; и в магазины, дворы, боковые проспекты черные фигурки убегали спешно обратно; голосили, ревели, топтались: словом – паника; издали, над головами там будто хлынула кровь; поразвились из чернеющей копоти все кипящие красные гребни, будто бьющиеся огни и будто оленьи рога.
И, ах как некстати!
Из-за двух-трех плечей, на одном уровне с ним, выглянул ненавистный картузик и два зорких глаза обеспокоенно уставились на него: подпоручик Лихутин и в суматохе его не утеривал из виду, выбиваясь из сил, чтобы снова пробиться к пробивавшемуся от него чрез толпу Аблеухову: Аблеухов же только-только хотел вздохнуть облегченно:
– «Не утеривайте меня… Николай Аполлонович; впрочем, все равно… я от вас не отстану».
– «Так и есть», – убедился теперь окончательно Аблеухов, – «он за мною гоняется: он меня никогда не отпустит…»
И пробивался к пролетке.
А за ними, из далей проспекта, над головами и грохотом голосов вылизывались знамена, будто текучие языки и будто текучие светлости; и вдруг все – пламена, знамена – остановились, застыли: грянуло отчетливо пение.
Николай Аполлонович через толпу, наконец, пробился к пролетке; но едва он хотел в нее занести свою ногу, чтоб заставить извозчика пробиваться далее чрез толпу, как почувствовал, что его опять ухватила просунутая чрез чужое плечо рука подпоручика; тут он стал, будто вкопанный, и, симулируя равнодушие, он с насильственной улыбкой сказал:
– «Манифестация!..»
– «Все равно: я имею к вам дело».
– «Я… видите ли… Я… тоже с вами совершенно согласен… Нам есть о чем побеседовать…»
Вдруг откуда-то издали пролетел пачками рассыпанный треск; и издали, разорвавшись на части, все те в копоти над головою толпы повосставшие светлости, над головою толпы заметались и туда, и сюда; заволновались там красные водовороты знамен и рассыпались быстро на одиноко торчавшие гребни.
– «В таком случае, Сергей Сергеевич, поговоримте в кофейне… Отчего бы нам не в кофейне…»
– «Как так в кофейне…», – возмутился Лихутин. – «Я в подобных местах не привык иметь объяснения…»
– «Сергей Сергеевич? Где же?..»
– «Да и я тоже думаю… Раз вы садились в пролетку, так сядемте и поедемте ко мне на квартиру…»
Эти слова были сказаны тоном явно притворным: до крови прикусил себе губы тут Николай Аполлонович:
– «На дому, на дому… Как же так – на дому? Это значит с поручиком с глазу на глаз запереться, дать отчет о неуместных проделках над Софьей Петровною; может быть, в присутствии Софьи Петровны дать отчет возмущенному мужу о несдержании слова… Явно: здесь западня…»
– «Но, Сергей Сергеевич, я полагаю, что по некоторым обстоятельствам, вам понятным вполне, мне у вас неудобно…»
– «Э, полноте!»
К чести Николая Аполлоновича, – он более не перечил; он покорно сказал: «Я готов». И держался спокойно он; чуть дрожала нижняя челюсть – вот только.
– «Как человек просвещенный, гуманный, вы, Сергей Сергеевич, меня поймете… Словом, словом… и по поводу Софьи Петровны».
Вдруг, запутавшись, оборвал.
Они сели в пролетку. И – пора: там, где только что метались знамена и откуда рассыпался пачками сухой треск, ни одного уже знамени не было; но оттуда хлынула такая толпа, напирая на впереди тут бегущих, что сроенные в кучи пролетки, стоявшие тут, полетели в глубь Невского – в противоположную сторону, где уже циркуляция была восстановлена, где вдоль улицы бегали серые квартальные надзиратели и конями плясали жандармы.
Поехали.
Николай Аполлонович видел, что многоножка людская здесь текла, как ни в чем не бывало; как текла здесь столетия; времена бежали там, выше; был и им положен предел; и предела того не было у людской многоножки; будет ползать, как ползает; и ползает, как ползла: одиночки, пары, четверки; и пары за парами: котелки, перья, фуражки; фуражки, фуражки, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; платочек, зонтик, перо.
Вот все пропало: они свернули с проспекта; выше каменных зданий в небе навстречу им кинулись клочковатые облака с висящею ливенной полосою; Николай Аполлонович весь согнулся под бременем нежданно свалившейся тяжести; клочковатое облако подползло; и когда серая, синеватая полоса их накрыла, – стали бить, стрекотать, пришепетывать хлопотливые капельки, закруживши на булькнувших лужах свои холодные пузыри; Николай Аполлонович сидел согбенный в пролетке, завернувшись лицом в итальянский свой плащ; на мгновение он позабыл, куда едет; оставалось смутное чувство: он едет – насильно.
Тяжелое стечение обстоятельств тут опять навалилось.
Тяжелое стечение обстоятельств, – можно ли так назвать пирамиду событий, нагроможденных за последние эти сутки, как массив на массиве? Пирамида массивов, раздробляющих душу, и именно – пирамида!..
В пирамиде есть что-то, превышающее все представления человека; пирамида есть бред геометрии, то есть бред, неизмеримый ничем; пирамида есть человеком созданный спутник планеты; и желта она, и мертва она, как луна.
Пирамида есть бред, измеряемый цифрами. Есть цифровый ужас – ужас тридцати друг к другу приставленных знаков, где знак есть, разумеется, ноль; тридцать нолей при единице есть ужас; зачеркните вы единицу, и провалятся тридцать нолей.
Будет – ноль.
В единице также нет ужаса; сама по себе единица – ничтожество; именно – единица!.. Но единица плюс тридцать нолей образуется в безобразие пенталлиона: пенталлион – о, о, о! – повисает на черненькой, тоненькой палочке; единица пенталлиона повторяет себя более чем миллиард миллиардов, повторенных более чем миллиард раз.
Чрез неизмеримости тащится.
Так тащится человек чрез мировое пространство из вековечных времен в вековечные времена.
Да, —
человеческой единицею, то есть этою тощею палочкой, проживал доселе в пространствах Николай Аполлонович, совершая пробег из вековечных времен —
– Николай Аполлонович в костюме Адама был палочкой; он, стыдясь худобы, никогда ни с кем не был в бане —
– в вековечные времена!
И вот этой палочке пало на плечи безобразие пенталлиона, то есть: более чем миллиард миллиардов, повторенных более, чем миллиард раз; непрезентабельное кое-что внутрь себя громадное прияло ничто; и громада ничто разбухала в презентабельном виде из вековечных времен —
– так разбухает желудок, благодаря развитию газов, от которых все Аблеуховы мучились —
– в вековечные времена!
Непрезентабельное кое-что внутрь себя громадное прияло ничто; кое-что от громады, пустой, нолевой, разбухало до ужаса. Вспучились просто Гауризанкары какие-то; он же, Николай Аполлонович, разрывался, как бомба.
А? Бомба! Сардинница?..
Во мгновение ока пронеслось то же все, что с утра проносилось: в голове пролетел его план.
Какой такой?
Да, да, да!..
Подкинуть сардинницу: подложить ее к отцу под подушку; или – нет: в соответственном месте подложить ее под матрасик. И – ожидание не обманет: точность арантирует часовой механизм. Самому же ему:
– «Доброй ночи, папаша!»
В ответ:
– «Доброй, Коленька, ночи!..»
Чмокнуть в губы, отправиться в свою комнату.
Нетерпеливо раздеться – непременно раздеться! Дверь защелкнуть на ключ и уйти с головой в одеяло.
Быть страусом.
Но в пуховой, в теплой постели задрожать, прерывисто задышать – от сердечных толчков; тосковать, бояться, подслушивать: как там… бацнет, как… грохнет там – из-за стаи каменных стен; ожидать, как бацнет, как грохнет, разорвав тишину, разорвавши постель, стол и стену; разорвав, может быть… – разорвав, может быть…