Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2
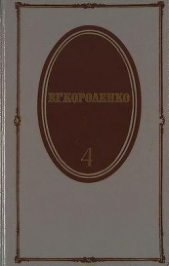
Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2 читать книгу онлайн
В том включены первая и вторая книги «Истории моего современника» (1853–1921), итогового произведения писателя, отразившего социально-политические и нравственные искания его поколения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иной раз входная дверь в кухонку при открывании оказывала некоторое сопротивление. Приходилось открывать ее с усилием и постепенно, чтобы не нанести увечья еще одному жильцу Цывенков. Это был «художник» Кузьма Иванович, тоже из «шпитонцев», существо очень жалкое, тщедушное, с разбитой грудью и слезящимися глазами. Он жил, собственно, на большом сундуке, помещавшемся между печкой и дверью, и иногда раскидавшись, упирался ногами в дверь. На сундуке он ночью спал, а днем устраивал мастерскую. Работало состояла в раскрашивании ламповых абажуров. Для этого он разводил на блюдечке акварельные краски, брал левой рукой абажур и механически поворачивал его около оси. А правая рука так же механически кидала в разных местах мазки кисти. Так он последовательно брал на кисть розовую, красную, потом зеленую и коричневую краски, и в несколько оборотов на абажуре из беспорядочных пятен образовывался красивый веночек. Кузьма Иванович отодвигал абажур, смотрел на него слезящимися слабеющими глазами, и на его желтом лице мелькало мгновенное выражение художественного удовлетворения… Затем он брал другой абажур и задумывался: какой теперь пустить колер и какие вывести цветы — опять розу или пустить незабудочек с фиалкой…
Когда я порой следил за его работой и удивлялся ее быстроте и точности, на лице Кузьмы Ивановича являлась улыбка тихого довольства.
— Нет… что же-с, помилуйте, — говорил он скромно, — так ли еще мы работали-с?.. Глаза слабеют-с. Слеза бьет.
Он был тоже из «шпитонцев», и Мавре Максимовне приходился «молочным братом», а такое братство у этого своеобразного петербургского сословия заменяет всякие иные степени родства. Жилец он, конечно, был не особенно выгодный, и его держали именно «по-родственному». Считалось, что он платит только «за угол», но Мавра Максимовна понемногу прикармливала его, как будто тайно от Цывенка. Последний делал вид, что этого не замечает.
Иной раз в праздник Цывенки устраивали игру «в короли», в которой порой участвовал я или Васька Веселитский. Приглашали также и Кузьму Ивановича. Он покорно выползал из своего угла с видом человека, стыдящегося собственного существования, запахивался, извинялся, брал дрожащими руками карты. Но игра, видимо, доставляла ему только страдание. Особенно когда ему начинало везти… Однажды, сделавшись «королем», он сконфузился так сильно и мучительно, что Мавра Максимовна его пожалела:
— Эх ты, бедовая… Ну иди, иди, бог с тобой: король! Пропустите его, Каролин Иванович. Видишь: стыдится она.
Каролином Ивановичем добрая женщина прозвала меня после напрасных попыток заучить мое трудное имя и отчество… Я посторонился, и злополучный «король» проскользнул в свой уголок…
— А какой человек была! — с бесцеремонной жалостью произнесла Мавра Максимовна. — Все водочка-матушка… Все он, проклятый… Ну давайте теперь в свои козыри… Никуда ты, Кузя, не годишься. Даже в карты играть.
Мне этот бедняга казался интересным. От него веяло Достоевским. Мне казалось, что если бы Кузьму Ивановича вызвать на откровенность, то он мог бы рассказать что-то глубоко печальное и значительное. Но он сообщал только отрывочные сведения, лишенные всякой связи и значения…
— А у нас, — говорил он, поворачивая в руках абажур, — на такой-то мануфактуре мастер был… Так у него, позвольте сказать, нос был красный… Вот до какой степени: кармин с баканом-с… Ей-богу, не вру-с… хе-хе-хе… с добавлением берлинской лазури…
Он начинал тихо смеяться, но даже смеяться не умел. Смех переходил в хрипоту и кашель…
— Эх, Кузя, Кузя, — говорила иногда Мавра Максимовна, — где пропадал три дня?
— На Петербургской стороне-с, — покорно отвечал Кузя, откашлявшись.
— В части небось ночевал?
— В части-с, Мавра Максимовна. На другой день отпустили-с… Меня потому что знают-с…
Однажды, придя с лекций, я застал Кузьму Ивановича в необычном настроении. Он был «выпивши», держался развязно и с каким-то особенным самодовольством. Говорил много, не кашляя и не запахивая сюртучишка, хвастая своими талантами и успехами. Цывенка снисходительно хлопал по плечу, но не скрывал от него, что он «Мавруше не пара». Около Мавры Максимовны ходил петушком, подбоченясь и многозначительно подмигивая. Цывенко немного хмурился, но не говорил ничего. Мавра Максимовна покатывалась от смеха…
Вечером того же дня я возвращался от Сучкова. Было темно и ненастно. Фонари стояли в мглистых нимбах, лужи шевелились на свету, как живые, от капель дождя. Самой серединой нашей улицы шел пьяный человек, пел какую-то финскую песню… Я узнал в нем нашего Кузьму Ивановича…
Сзади послышался грохот колес. Кучер рявкнул «берегись», но пьяненький Кузьма Иванович только откачнулся и, став в позу, громко на всю улицу продекламировал:
«Дурак, ехавший на скотине», тотчас соскочил с пролетки и, схватив художника за шиворот, крикнул городового. Напрасно я и еще какой-то проходивший студент просили этого господина отпустить беднягу, указывая, что ведь он пьян и не знал, кого оскорбляет. Господин не отвечал, даже не глядел на нас. От часовенки бежал, придерживая саблю, полицейский, явились два дворника.
Господин дал свою карточку (при виде которой полицейский вытянулся, точно в столбняке) и сел на лихача. Скоро грохот колес затих в конце переулка, а Кузьму Ивановича повлекли, несмотря на наше заступничество, в участок.
С этих пор художника мы уже более не видели… Мавра Максимовна плакала и посылала Цывенка за справками… После многих хлопот и вечерних хождений по разным местам Цывенко принес печальное известие: художник от неизвестной причины в участке умер и уже похоронен в безыменной могиле на Волковом…
— Били его, верно, не иначе, — всхлипывая, говорила Мавра Максимовна, — они ведь, полицейские, известно, дураки… непонимающие… А ему, Кузе, много ли и надо. Слабая была… чисто цыпленок…
И она по-детски утирала слезы оборотными сторонами своих пухлых рук… Цывенко снес в магазин несколько оставшихся абажуров, и на полученные деньги супруги заказали панихиду в соседней церкви Мирония на Обводном.
«Угол» опустел. Но тень художника, казалось, еще некоторое время витала в квартирке, и по вечерам я так же осторожно открывал дверь, чтобы не задеть Кузьму Ивановича на его сундуке… К моим воспоминаниям о нем присоединялось что-то вроде угрызений совести… Я не сделал чего-то, что нужно было сделать. Перебирая с Веселитским весь этот эпизод, мы пришли к заключению, что ничего я сделать не мог. Но что-то все-таки оставалось… Чего-то хотелось задним числом. В воображении рисовалась кучка молодежи, вроде тех киевских студентов, громивших полицию, о которых ходили легендарные рассказы еще у нас, в гимназии. Хотелось силы… Свистки, тревога, свалка, заступничество, победа… И в этом опять участвует знакомая фигура моего современника, усовершенствованная еще в новом эк а н ре…
Была в нашей квартирке, кроме злополучного художника, и еще одна тень, принимавшая для меня живые, почти ощутительные формы. Года за два до нас половину нашей комнаты за перегородкой занимал какой-то рабочий. От него Цывенкам осталась клетка с канарейкой. Канарейка у них издохла, а клетка висела над окном, и каждый раз, когда Мавра Максимовна замечала ее, она сообщала что-нибудь о бывшем жильце…
— Чюдачок тоже была, — говорила она с тихой улыбкой, как и при воспоминании о Кузе. — Ну, не пьяница. Нет. Капли в рот не брала… И не буянила она, как покойник Кузя, царство небесное… Только и знала: придет с работы, сейчас кинареечку кормить… Клеточку чистить… — И вот чюдное дело, Каролин Иваныч, как эта кинареечка его знал: свистнет он, дверку откроет, она ему на плечо… Чивик, чивик… Через книжки пропала она…
— Как через книжки, Мавра Максимовна?
— Книжки много читал.
— Так что же. С ума, что ли, сошел?
— Не-ет… Глупый я баба. Не умею рассказать тебе. Цывенко у меня умный, на войне была… А тоже этого дела не понимает: за что пропала наш Павла Карпович… А только верно, что за книжки.


























