Том 9. Учитель музыки
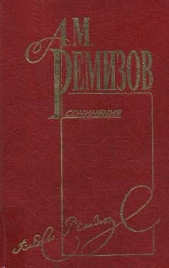
Том 9. Учитель музыки читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ночи мои бывают ужасны. Иногда мне жутко поднять глаза к незавешенному окну: мне все кажется, кто-то смотрит. Я знаю этот взгляд, все подкашивающий – недоверие. И у меня опускаются руки. Или вдруг я чувствую, что кто-то подходит за спиной, а в глазах – как завеса, что вот-вот разорвется и раскроет пространство, а я схватываюсь, что сейчас закричу и буду кричать… Теперь я понимаю, что мое состояние совсем не болезнь, а это те самые «судороги души», о которых говорит Достоевский, упоминая о минутах человека, ведомого на казнь.
А в ту ночь, когда я вернулся домой из Булони от Куковникова и лег, не засиживаясь – очень устал я – неожиданно я сразу заснул, и в этом внезапном первом сне голову мою расстреляли; я чувствовал приставленный револьвер и даже крикнул, когда увидел ее, расколотой пополам. И потом долго не мог заснуть, я продолжал думать начатое у Куковникова, нет, раньше – с булавок и иголок, разбудивших меня, и под всеми моими думами одна была, и сам я лежал, как уголь.
2. Голландец
Как когда-то в Берлине появился внезапно Пильняк 267, так нежданно-негаданно в Париже голландец Вангруд. Что Пильняк – понятно, тогда молодой литератор, было общее, и о чем спросить, и чего сказать друг другу. Но Карл Вангруд, агент страхования жизни, какими судьбами он попал к нам, неисповедимо.
Карл Вангруд попал к нам, чтобы жрать и разговаривать. «Жрать» не потому, чтобы нуждался, а потому, как сам он выразился, что «предпочитает домашний стол» – в ресторанах и дерут, и кто их знает, чего еще подвалят. А «разговаривать» – «для практики русского языка».
Всякое утро Вангруд появлялся у нас в 11 пить кофий. Первый кофе он пил в своем отеле по соседству на roe Pierre Guérin – разве это не судьба, соседство?
Утренние часы присутствие постороннего, за которым надо еще ухаживать, сущая напасть. Впрочем, Вангруд с первого дня заявил, что он «не стесняющийся». Он подбирал со стола все, что случалось у нас, добытое правдами и неправдами, пьет и ест медленно, пример, как надо разжевывать и, разжевав, глотать.
После кофею я мою посуду. А он сосредоточенно высиживался, и видно было, старается ни о чем не думать, чтобы не мешать пищеварению. Для меня было самое нетерпеливое ждать это голландское пищеварение. Оправившись, Вангруд уходил по своим делам.
Час наших раздумий – когда нет денег, чай с хлебом заменял обед, а теперь надо было непременно что-то готовить.
К обеду возвращался Вангруд, тщательно мыл руки и садился к столу. И, как за кофеем, жрал со всей медлительностью и расстановкой все, что тащу ему из кухни в «кукушкину». А когда потом на кухне я мою посуду, он усаживался за мой стол писать в Амстердам письма. И писал он не торопясь, с прохладцей и любованием – каллиграф.
Как-то, оттого ли что у меня душа впечатлительная и застенчивая, у меня сорвалось – я заметил, что в отеле есть стол и бесплатно дают бумагу и конверты.
«Но там стол качается!» – отозвался Вангруд.
Высидевшись за письмами, Вангруд уступил мне стол и отправился мыть руки. И то же, как с письмами, не сравнить ни с какою медленностью – в хвосте стоять не так чувствительно.
Обыкновенно всех своих наброжих привязанностей я водил с собой. Исключение Вангруд. Он самостоятельно с моими рекомендательными письмами шел по нашим знакомым – «для практики русского языка». А если вечер был не занят, за вечерним чаем я читаю – он слушал необыкновенно внимательно, глотая глазами и ухом – «для практики русского языка». Потом разговоривали: он говорил по-русски, а я поправлял.
Книжниками не делаются, а зарождаются. Вангруд не помнит, когда б он не любил книгу, а собирает книги – с колыбели. По крайней мере, в пять лет у него была своя библиотека, собранная на шоколадные и игрушечные деньги.
Из современных писателей он облюбовал меня. У него были все мои книги – и русские и заграничные издания – а все, что появлялось в газетах и журналах, он вырезал и наклеивал.
Чем я его тронул? Мое – такое не голландское. 268 Голландия, оттолкнувшая Петра от природно-московского. Амстердам и Москва, не знаю, с какого конца подойти, такая разноголосица.
Коверкая ударения до неузнаваемости слова, Вангруд на память произносил фразы из моей «Посолони» с той же сосредоточенностью, не спеша, как ел и писал письма.
Другим его литературным пристрастием был немецкий поэт Гундольф 269 из школы Стефана Георге 270. А все заключает Джойс: Вангруд знал не только «Улисса», но и комментарии.
По-немецки и по-английски он не вывертывал слова, как по-русски, до неузнаваемости.
И очень чувствителен к музыке. Но без толка глухой. Совсем не то что у меня – я музыку чувствую и без оркестра, я вдруг пронзаюсь музыкой, и все во мне поет. У него никакого голоса, о музыке он не «думал», но под музыку он умиляется, как при чтении «Посолони», стихов Гундольфа и страницы «без передышки» Джойса.
За стеной передают Бетховена. Вангруд отодвинул чашку – чай он любит моей заварки – и вдруг поднялся:
без слуха на стертых глухих нотах, но как под стать выпевал он этот лавочный пошленький мотив, какой убогой человеческой радости! Вырвавшийся из звездной музыки нечеловеческих высот.
Вангруд приехал в Париж на неделю, а вот уж и третья кончается, прижился, а главное: «практика русского языка».
Рассчитывал я получить деньги, но со мной всегда история: или забывают, или оттягивают. Но с меня-то ведь требуют, и как объяснишь. Обыкновенно не верят и в лучшем случае с упреком и «вторичным» напоминанием терпят, а то просто требуют без никаких. Денег вовремя я не получил, и закрыли газ.
«Закрыли газ, – сказал я Вангруду, – придется питаться всухомятку».
«А что такое сухомятка?»
«Да так, без горячего».
«Очень интересно. Я буду всухомятку».
Как с газом, так и без газа, всякое утро неизменно в 11 появляется Вангруд пить кофий. Очень хлопотно было на спирту готовить. Медлительность, мне всегда тягостная, для него проходила незаметно, он принимал ее за основательность.
А «сухомятка», интересная как слово, ему не очень понравилась: день-два без горячего еще кое-как, а на третий, искренно удивленный, что и опять без супу, он попросил меня написать рекомендательные письма «для практики русского языка», но в такие дома, где едят не «всухомятку».
У всех еще в памяти «6-е февраля», и хотя лето загородило это «парижское восстание», я схватился за него, вспомнив магическое действие моего «вооруженного восстания» на 5-ой Рождественской в Петербурге в 1906 году: 272случай с Гюнтером 273. И за кофеем «всухомятку» напомнил Вангруду недавний «трагический» случай, когда на Конкорд какого-то депутата выпороли, и что снова предполагается и потому в Париже небезопасно.
«А я не буду выходить на улицу», – безо всякого беспокойства, а даже с каким-то удовольствием ответил Вангруд.
Где было искать спасения – мое испытанное верное средство, «страшные слова», оказалось впустую. Вангруд не поддался. И мне ничего не оставалось как только покориться своей участи, – как это бывает во сне, терпеть, пока не проснешься.
Так однажды я проснулся: Вангруд, закончив свои дела по страхованию жизни, исчез.
Но долго еще мне помнился этот сон, и если мне случалось при знакомых, однажды получивших мои рекомендательные письма, к слову сказать «возвращается» – у всех расширялись глаза и в зрачках показывался «глаголь» – я читаю «голландец».
























