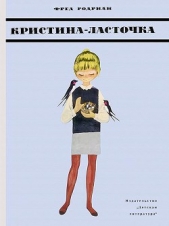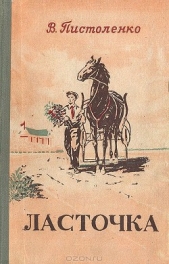Век мой, зверь мой (сборник)

Век мой, зверь мой (сборник) читать книгу онлайн
Осип Мандельштам – гениальный русский поэт, обладавший уникальным чувством языка, первенство которого среди поэтов признавала Анна Ахматова; автор изысканной прозы, переводчик. «Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе», – писал О. Мандельштам о своем поэтическим кредо. И оказался прав, навсегда оставив неподражаемый след в истории русского стихосложения и литературы. Тот, кто хоть раз слышал, читал произведения Мандельштама, навсегда остается завороженным магией его слова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И не один прожектор шарил по этому страшному небу: все науки превратились в собственные, отвлеченные и чудовищные, методологии (за исключением математической). Торжество голого метода над познанием по существу было полным и исключительным, – все науки говорили о своем методе откровеннее, охотнее, более одушевленно, нежели о прямой своей деятельности. Метод определяет науку: сколько наук, столько методологий. Наиболее типична философия: на всем протяжении столетия она предпочитала ограничиваться «введением в философию», вводила и вводила без конца, куда-то заводила и бросала. И все науки вместе шарили по беззвездному небу (а небо этого столетия было удивительно беззвездным) своими методологическими щупальцами, не встречая сопротивления в мягкой отвлеченной пустоте.
Меня все тянет к цитатам из наивного и умного восемнадцатого века, и сейчас мне вспоминаются строчки из знаменитого ломоносовского послания:
Откуда этот пафос, высокий пафос утилитаризма, откуда это внутреннее тепло, согревающее поэтическое размышление о судьбах обрабатывающей промышленности, какая разительная противоположность с блестящим и холодным безразличием методологической научной мысли девятнадцатого столетия…
Восемнадцатый век был веком секуляризации, то есть обмирщения человеческой мысли и деятельности. Ненависть к жречеству, гиератическому культу, ненависть к литургии глубоко заложена в его крови. Не будучи веком социальной борьбы по преимуществу, он был промежутком времени, когда общество болезненно чувствовало касту. Унаследованный от средневековья детерминизм тяготел над философией и просвещением и над его политическими опытами вплоть до «tiers états» [16].
Каста жрецов, каста воинов, каста земледельцев – вот понятия, которыми оперировали «просвещенные умы». Это отнюдь не классы: все перечисленные элементы мыслились необходимыми в священной архитектонике всякого общества. Огромная накопившаяся энергия социальной борьбы искала себе выхода. Вся агрессивная потребность века, вся сила его принципиального негодования обрушилась на жреческую касту. Казалось, вся наковальня великих принципов служила только для того, чтобы выковать молот, которым можно было бы сокрушить ненавистных жрецов. Не было столетия более чуткого ко всему, что пахнет жречеством, – кадильный дым и всяческие курения обжигали его ноздри и заставляли выпрямляться позвоночник хищного зверя.
Литургия была занозой в теле восемнадцатого века. Он не видел вокруг себя ничего, что так или иначе не было бы связано с литургией, не происходило бы от нее. Архитектура, музыка, живопись – все излучалось из одного центра, а этот центр подлежал уничтожению. В живописной композиции существует один вопрос, обусловливающий движение и равновесие красок: где источник света? Так восемнадцатый век, отвергнув источник света, исторически им унаследованный, должен был разрешить заново для себя его проблему. И он разрешил ее своеобразно, прорубив окно в им же самим выдуманное язычество, в мнимую античность, отнюдь не филологическую и не подлинную, а в вспомогательную, утилитарную, сочиненную ad hoc, для удовлетворения назревшей исторической потребности.
Рационалистические моменты мифологии как нельзя лучше подходили к этой потребности века, позволяя ему населить опустошенное небо образами человечными, податливыми и послушными капризному самолюбию эпохи. Что же касается деизма, то он терпел все, готов был стерпеть все, лишь бы за ним сохранили скромное значение подмалевка, если это не был пустой холст.
По мере приближения Великой французской революции псевдоантичная театрализация жизни и политики делала все большие успехи, и к моменту самой революции практическим деятелям пришлось уже двигаться и бороться в густой толпе персонификаций и аллегорий, в узком пространстве настоящих театральных кулис, на подмостках инсценированной античной драмы. Когда в этот жалкий картонный театр сошли настоящие фурии античного беснования, в напыщенной трескотне гражданских праздников и муниципальных хоров сначала трудно было поверить, и только поэзия Шенье, поэзия подлинного античного беснования, наглядно доказала, что существует союз ума и фурий, что древний ямбический дух, распалявший некогда Архилоха к первым ямбам, еще жив в мятежной европейской душе.
Дух античного беснования с пиршественной роскошью и мрачным великолепием проявился во Французской революции. Разве не он бросил Жиронду на Гору и Гору на Жиронду? Разве не он вспыхнул в язычках фригийского колпака и в неслыханной жажде взаимного истребления, раздиравшей недра Конвента? Свобода, равенство и братство – в этой триаде не оставлено места для беснующихся фурий подлинной беснующейся античности. Ее не пригласили на пир, она пришла сама, ее не звали, она явилась непрошеной, с ней говорили на языке разума, но понемногу она превратила в своих последователей самых яростных своих противников.
Французская революция кончилась, когда от нее отлетал дух античного беснования; она испепелила жречество, убила социальный детерминизм, довела до конца дело обмирщения Европы и выплеснулась на берег девятнадцатого столетия уже непонятая – не голова Горгоны, а пучок морских водорослей. Глубокое уважение к минувшему девятнадцатому столетию заставляет относиться с достаточным доверием к его реакционной глубине. Из союза ума и фурий родился ублюдок, одинаково чуждый и высокому рационализму энциклопедий, и античному воинству революционной бури – романтизму.
Но романтизм все-таки прямой потомок. В дальнейшем своем течении девятнадцатый век ушел от своего предшественника гораздо дальше, чем романтизм.
Девятнадцатый век был проводником буддийского влияния в европейской культуре. Он был носителем чужого, враждебного и могущественного начала, с которым боролась вся наша история, – активная, деятельная, насквозь диалектическая, живая борьба сил, оплодотворяющих друг друга. Он был колыбелью Нирваны, не пропускавшей ни одного луча активного познания, —
Скрытый буддизм, внутренний уклон, червоточина. Век не исповедовал буддизма, но носил его в себе как внутреннюю ночь, как слепоту крови, как тайный страх и головокружительную слабость. Буддизм в науке – подрумяненной личиной и озабоченной суетой позитивизма; буддизм в искусстве – в аналитическом романе Гонкуров и Флобера; буддизм в религии – глядящий из всех дыр теории прогресса, подготовляющий торжество новейшей теософии, которая не что иное, как буржуазная религия прогресса, религия аптекаря, господина Гомэ, изготовляющаяся к дальнейшему плаванию и снабженная метафизическими снастями.
Не случайно, кажется мне, тяготенье Гонкуров и их единомышленников, первых французских импрессионистов, к японскому искусству, к гравюре Хокусая, к форме танки во всех ее видах, то есть к совершенной и замкнутой в себе и неподвижной композиции. Вся «Мадам Бовари» написана по системе танок. Потому Флобер так медленно и мучительно ее писал, что через каждые пять слов он должен был начинать сначала.
Танка – излюбленная форма атомистического искусства, – она не миниатюрна, и было бы грубой ошибкой благодаря ее краткости смешивать ее с миниатюрой. У нее нет масштаба, потому что в ней нет действия. Она никак не относится к миру, потому что есть сама мир и постоянное внутреннее вихревое движение внутри атома.
Вишневая ветка и снежный конус излюбленной горы, покровительницы японских граверов, отразились в сияющем лаке каждой фразы полированного флоберовского романа. Здесь все покрыто лаком чистого созерцанья, и, как поверхность палисандрового дерева, стиль романа может отобразить любой предмет. Если подобные произведения не испугали современников, это следует отнести к их поразительной нечуткости и художественной невосприимчивости. Из всех критиков Флобера, быть может, наиболее проницательным был королевский прокурор, угадавший в романе какую-то опасность. Но, увы, он ее искал не там, где она скрывалась.