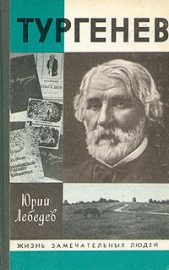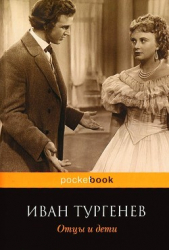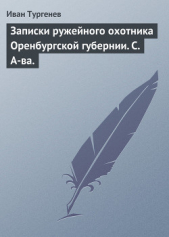Записки охотника. Накануне. Отцы и дети
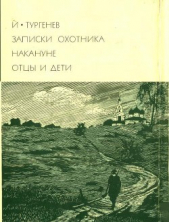
Записки охотника. Накануне. Отцы и дети читать книгу онлайн
Тургенев — один из создателей великого русского реалистического романа, правдивость, глубина и художественные достоинства которого поразили мир. И если верно, что основной магистралью развития всемирной литературы в эпоху реализма был роман, то бесспорно, что одной из центральных фигур этого развития в середине XIX века был Тургенев.
В издание вошли рассказы «Записки охотника», романы «Накануне» и «Отцы и дети».
Вступительная статья С. Петрова.
Комментарии В. Фридлянда и А. Батюто
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она остановилась и не тотчас отвечала ему — не потому, чтоб она сердилась, а ее мысли были далеко.
— Нет, — сказала она наконец, — я нисколько не сержусь.
Шубин закусил губу.
— Какое озабоченное… и какое равнодушное лицо! — пробормотал он. — Елена Николаевна, — продолжал он, возвысив голос, — позвольте мне рассказать вам маленький анекдотец. У меня был приятель, а у этого приятеля был тоже приятель, который сперва вел себя, как следует порядочному человеку, а потом запил. Вот однажды рано поутру мой приятель встречает его на улице (а уж они, заметьте, раззнакомились), встречает его и видит, что он пьян. Мой приятель взял да отвернулся от него. А тот-то подошел, да и говорит: «Я бы не рассердился, говорит, если б вы не поклонились, но зачем отворачиваться? Может быть, это я с горя. Мир моему праху!»
Шубин умолк.
— И только? — спросила Елена.
— Только.
— Я вас не понимаю. На что вы намекаете? Сейчас вы говорили мне, чтоб я не глядела в вашу сторону.
— Да, а теперь я вам рассказал, как нехорошо отворачиваться.
— Да разве я… — начала было Елена.
— А разве нет?
Елена слегка покраснела и протянула Шубину руку. Он крепко пожал ее.
— Вот вы меня как будто поймали на дурном чувстве, — сказала Елена, — а ваше подозрение не справедливо. Я и не думала чуждаться вас.
— Положим, положим. Но сознайтесь, что у вас в эту минуту тысяча мыслей в голове, из которых вы мне ни одной не поверите. Что? небось не правду я сказал?
— Может быть.
— Да отчего же это? отчего?
— Мои мысли мне самой не ясны, — проговорила Елена.
— Тут-то их и доверять другому, — подхватил Шубин. — Но я вам скажу, в чем дело. Вы дурного мнения обо мне.
— Я?
— Да, вы. Вы воображаете, что во мне все наполовину притворно, потому что я художник; что я не способен не только ни на какое дело, — в этом вы, вероятно, правы, — но даже ни к какому истинному, глубокому чувству: что я и плакать-то искренно не могу, что я болтун и сплетник, — и все потому, что я художник. Что же мы после этого за несчастные, богом убитые люди? Вы, например, я побожиться готов, не верите в мое раскаяние.
— Нет, Павел Яковлевич, я верю в ваше раскаяние, и в ваши слезы я верю. Но мне кажется, самое ваше раскаяние вас забавляет, да и слезы тоже.
Шубин дрогнул.
— Ну, я вижу, это, как выражаются доктора, неизлечимый казус, casus incurabilis. Тут остается только поникнуть головой да покориться. А между тем, господи! неужели это правда, неужели же я все с собой вожусь, когда рядом живет такая душа? И знать, что никогда не проникнешь в эту душу, никогда не будешь ведать, отчего она грустит, отчего она радуется, что в ней бродит, чего ей хочется, куда она идет… Скажите, — промолвил он после небольшого молчания, — вы никогда, ни за что, ни в каком случае не полюбили бы художника?
Елена посмотрела ему прямо в глаза.
— Не думаю, Павел Яковлевич; нет.
— Что и требовалось доказать, — проговорил с комической унылостию Шубин. — Засим, я полагаю, мне приличнее не мешать вашей уединенной прогулке. Профессор спросил бы вас: а на основании каких данных вы сказали нет? Но я не профессор, я дитя, по вашим понятиям; но от детей не отворачиваются, помните. Прощайте. Мир моему праху!
Елена хотела было остановить его, но подумала и тоже сказала:
— Прощайте.
Шубин вышел со двора. В недальнем расстоянии от дачи Стаховых встретился ему Берсенев. Он шел проворными шагами, наклонив голову и сдвинув шляпу на затылок.
— Андрей Петрович! — крикнул Шубин.
Тот остановился.
— Ступай, ступай, — продолжал Шубин, — я только так, я тебя не задерживаю, — и проберись прямо в сад; там ты найдешь Елену. Она, кажется, тебя ждет… кого-то она ждет, во всяком случае… Понимаешь ты силу этих слов: она ждет! А знаешь, брат, какое удивительное обстоятельство? Представь, вот уже два года, как я живу с ней в одном доме, я в нее влюблен, и только сейчас, сию минуту, не то что понял, а увидал ее. Увидал и руки расставил. Не взирай на меня, пожалуйста, с этою лжеязвительною усмешкой, которая мало идет к твоим степенным чертам. Ну да, разумею, ты хочешь напомнить мне об Аннушке. Что ж? Я не отказываюсь. Нашему брату Аннушки под стать. Да здравствуют же Аннушки, и Зои, и самые даже Августины Христиановны! Ты ступай к Елене теперь, а я отправлюсь… ты думаешь, к Аннушке? Нет, брат, хуже: к князю Чикурасову. Есть такой меценат из казанских татар, вроде Волгина. Видишь ты это пригласительное письмо, эти буквы: R.S.V.Р.? [86] И в деревне мне нет покоя! Addio! [87]
Берсенев выслушал тираду. Шубина молча и как будто конфузясь немножко за него, потом он вошел на двор стаховской дачи. А Шубин действительно поехал к князю Чикурасову, которому наговорил, с самым любезным видом, самых колких дерзостей. Меценат из казанских татар хохотал, гости мецената смеялись, а никому не было весело, и, расставшись, все злились. Так два малознакомых господина, встретившись на Невском, внезапно оскалят друг перед другом зубы, приторно съежат глаза, нос и щеки и тотчас же, миновав друг друга, принимают прежнее, равнодушное или угрюмое, большею частию геморроидальное, выражение.
X
Елена дружелюбно встретила Берсенева, уже не в саду, а в гостиной, и тотчас же, почти нетерпеливо, возобновила вчерашний разговор. Она была одна: Николай Артемьевич тихонько скрылся куда-то, Анна Васильевна лежала наверху с мокрою повязкой на голове. Зоя сидела возле нее, аккуратно расправив юбку и сложив на коленях ручки; Увар Иванович почивал в мезонине на широком и удобном диване, получившем прозвище «Самосон». Берсенев снова упомянул о своем отце: он свято чтил его память. Скажем и мы несколько слов о нем.
Владелец восьмидесяти двух душ, которых он освободил перед смертию, иллюминат, старый геттингенский студент, автор рукописного сочинения о «Проступлениях или преобразованиях духа в мире», сочинения, в котором шеллингианизм, сведенборгианизм и республиканизм смешались самым оригинальным образом, отец Берсенева привез его в Москву еще мальчиком, тотчас после кончины его матери, и сам занялся его воспитанием. Он подготовлялся к каждому уроку, трудился необыкновенно добросовестно и совершенно неуспешно: он был мечтатель, книжник, мистик, говорил с запинкой, глухим голосом, выражался темно и кудряво, все больше сравнениями, дичился даже сына, которого любил страстно. Не мудрено, что сын только хлопал глазами за его уроками и не подвигался ни на волос. Старик (ему было под пятьдесят лет, он женился очень поздно) догадался наконец, что дело не идет на лад, и поместил своего Андрюшу в пансион. Андрюша стал учиться, но из-под родительского присмотра не вышел: отец навещал его беспрестанно, надоедая содержателю своими наставлениями и беседами; надзиратели также тяготились незваным гостем: он то и дело приносил им какие-то, по их словам, премудреные книги о воспитании. Даже школьникам становилось неловко при виде смуглого и рябого лица старика, его тощей фигуры, постоянно облеченной в какой-то вострополый серый фрак. Школьники не подозревали тогда, что этот угрюмый, никогда не улыбавшийся господин, с журавлиной походкой и длинным носом — сердцем сокрушался и болел о каждом из них почти так же, как о собственном сыне. Он однажды вздумал побеседовать с ними о Вашингтоне. «Юные питомцы!» — начал он, но при первых звуках его странного голоса юные питомцы разбежались. Честный геттингенец жил не на розах: он был постоянно подавлен ходом истории, всякого рода вопросами и соображениями. Когда молодой Берсенев поступил в университет, он ездил с ним на лекции; но уже здоровье начинало изменять ему. События 48-го года потрясли его до основания (надо было всю книгу переделать), и он умер зимой 53-го года, не дождавшись выхода сына из университета, но заранее поздравив его кандидатом и благословив его на служение науке. «Передаю тебе светоч, — говорил он ему за два часа до смерти, — я держал его, покамест мог, не выпускай и ты сей светоч до конца».