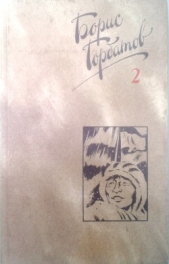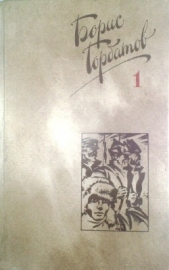Собрание сочинений в четырех томах. Том 3

Собрание сочинений в четырех томах. Том 3 читать книгу онлайн
Том 3 - Очерки, рассказы, корреспонденции
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И оттуда отозвалось:
— Прине-ос!..
— Ну, садитесь, поедем за ним. Ах, глупыш, глупыш, внучонок-то мой... Покричите ему, дескать, едем зараз.
Оба мальчика, надрываясь и стараясь кричать басом, заверещали:
— Зара-а-аз... зара-а-аз приедем!..
И опять светлая, ласково улыбающаяся гладь шаловливо повторила много раз:
«...а-а-аз... еде-е-ем!..»
От челнока бежали две светлые волны, а в нем сидело трое. Один с белой бородой и седыми добрыми бровями бурлил веслом светлую, весело игравшую воду.
Мишке казалось, что он еще спит и что снится ему — светлая река, и в реке ослепительно расплавленное солнце, и будто убегает берег, и далеко назади остаются хмурые темные дома, грязные вонючие переулки и вечный, неумирающий гул вместе с дымной мглой, изо дня в день прерываемый лишь ровным, настойчивым, не знающим ни отдыха, ни пощады гудком... Далеко все позади, меркнет, тает.
Мишка поднимает глаза: солнце над лесом, тепло, и в играющей воде все ослепительнее, все нестерпимее плавится золото, и уже совсем надвинулся белый обрывистый размытый берег, косо отражаясь в неуловимо прозрачной глубине таким же белым, размытым, опрокинутым отражением. И, так же отражаясь, сидел у самой воды мальчик с мешком на плечах.
Челнок ткнулся в берег, и отражения задрожали, запрыгали, уродливо вытянулись и помутнели. И уже не было бездонной глубины, а бежали стекловидные морщины и лизали крутой берег.
Мальчуган прыгнул в живой, закачавшийся, вот-вот готовый черпнуть челнок.
— Ну, что? — проговорил дед и напружился, упершись и отпихиваясь от берега веслом.
— Два хлеба принес и крючья. У тетки Матрены корова отелилась — бычок.
И пока один берег убегал, а другой бежал навстречу, мальчики сидели молча, искоса и исподлобья оглядывали друг друга. Хотелось заговорить — и не умели.
Только когда обсели котелок и стали хлебать дымящуюся уху, Мишка, прожевывая хлеб, проговорил:
— С дедом рыбачишь?
— Рыбачу, — коротко ответил мальчик, все не умея освободиться от связывающей конфузливости в присутствии незнакомых. Но потом набрался смелости и проговорил:
— А этот из городу? — и кивнул на Ваню, привлекшего его своей одеждой.
— Оба из города, — проговорил Мишка, — фабричные.
— Так, так... всякому свое. — Дед вытер усы. — И фабричному тоже бывает ничего: гляди, сапоги с набором купит, а то гармонию, играй себе по праздникам...
Мишка торопливо положил ложку, вытер губы и, наморщив лоб, проговорил убедительно:
— Дедушка, я у тебя останусь... буду помогать, рыбачить стану.
Дед добродушно ухмыльнулся в бороду.
— Миляга, а у тебя нет родителев, что ли?.. А есть, разыскивать зачнут, зараз становой налетит, накостыляет деду шею. Просторно, и река, и солнышко, а тоже и у нас тесно, ух, как тесно!.. Рыбки наловим, все в город тянем, в город и в город, а как цены нет, и толку нет, только что в город возишь.
— А мы, дедушка, в городе живем — ни рыбы, ни молока, ни яиц и не видим.
— И без вас съедят... Скушают за мое почтение.
— Мы одного видали, дедушка: рота-астый да толстый, за стеклом сидит, пасть разяват...
— А зубы че-ерные!..
— Пасть разяват, а ему туда мясо кладут, хлеб, а которые услужающие льют ему туда пойло же-олтое, вроде как лимонад, а он все глотает.
Дед почесал бороду.
— Они горазды... это они могут, на панском положении.
— Рестораном называется... — проговорил Ваня.
Потом все трое купались, шаля и возясь в серебристой туче брызг.
Дед с внуком выехали на реку, и неподвижно чернеет их челнок на светлой глади. Мишка с Ваней голые бегали по берегу, гонялись за мальвой, разыскивая раковины, или валялись на горячем песке.
— Дедушка-а!.. — от времени до времени кричали мальчики. — Можно хлебца?
И светлая река доносила добродушно:
— Ну-к, что ж?.. Скушайте на здоровье по ломтику.
А когда солнце стало клониться к полям по другую сторону реки, дед сказал:
— Ну, ребятки, надо вам и до дому. Будет шалыганить... Возьмите сушеной рыбки, хлебца да с богом. Отседа направо березнячком, а за березнячком станция, попросите начальника в красной шапке, — он даром вас довезет.
На станции Мишка снял шапку, приложил руки к животу и, глядя снизу вверх, говорил гнусавым голосом начальнику:
— Пожале-ейте, ваше благородие, сироток... дозвольте проехать до города... Ни папы, ни мамы...
И столько в его лице было плутоватой заячьей хитрости, что начальник, улыбаясь, заметил кондуктору:
— Посадите, что ли.
Когда поезд тронулся и полетели поля, домики, будки, столбы, зеленые откосы, мальчики не могли оторваться от окон.
— А... Ванька, гляди, как чешет!..
И с этой громадной быстротой, точно скашивавшей все встречное, радостное, неодолимое волнение охватывало Мишку.
— А?.. Ванька!.. Теперь я из поезда и вылезать не буду...
Полетели навстречу дома, улицы, экипажи, толпы народу, — надвинулся город, и, когда вышли из вокзала, поглотил их муравейник кипевшей жизни.
Среди уличной непрерывной оглушающей сутолоки встал роковой вопрос: что дальше делать? Мишка остановился, поскреб в голове. Ваня, испуганно озираясь, протянул:
— Надо домо-ой.
Но Мишку осенила новая мысль.
— Слышь ты... все одно по дороге... зайдем к Миколе Мокрому... на колокольню, наберем турманов... Твой Козел любит; скажешь ему: хоть проходил, да турманов принес, а они денег стоют...
Мишке мучительно хотелось оттянуть время.
— По-оздно!..
— Чего поздно! Говорю — по дороге... все одно... Только скорей, пока колокольню не заперли.
— Ну, ладно, а потом домой.
Мальчики торопливо пошли среди непрерывно движущейся толпы.
Из церкви неслось согласное пение, мигали свечи, пахло запахом человеческих тел и ладана. Из-за дверей не слышно было, но, должно быть, что-нибудь говорил поп или дьякон, потому что головы у всех точно погнуло ветром, стали кланяться и опять — неподвижные спины, и согласное пение, и запах пота и ладана.
Мишка оглядывался. На паперти стояли нищие. Ночь торопливо густела, и в темноте тонули главы, выступы и украшения. По улицам зажглись фонари.
— Пойдем, — дернул Мишка Ваню.
Они пошли к маленьким дверям колокольни. Старик сторож, кряхтя, спустился и пошел к паперти.
Мальчики шмыгнули в двери, ощупью поднялись по лестнице. На повороте присели в уголке и стали ждать.
Темно, хоть глаз коли. Наверху мерещится слабый, неуверенный отсвет, должно быть в пролеты окон. Снизу доносится неясное, неузнаваемое пение.
Ухо чутко ловит скрипучие стариковские шаги, тяжелое, немного хриплое дыхание; поравнялось; потом выше, слабее; смолкло. Постояла тишина. И вдруг колокольня дрогнула, дрогнула тягучим глубоким дрожанием, и стены, и ступеньки лестницы, и спины, и руки, и головы мальчиков, — и в ту же минуту, наполняя огромную ночную тьму медлительным гудением, загудел колокол. Как будто не было ни церкви, ни пения, ни людей, а только тяжко гудящие, заполняющие ночь удары.
Мальчики сидели, зажав уши, раскрыв рот, — больно отдается в голове.
Последний удар, и смолкло, но все еще стоит медлительно гудящее колебание. Скрипучие стариковские шаги спускаются вниз, и бежит неровная гудящая волна. Захлопнулась дверь, загремел замок, и все колеблется тяжелая тьма, смолкло пение внизу, погасли огни, разошлись люди, в темноте церковь, но еще колеблется неуловимым колебанием неугомонная медь. Наконец смолкла, но у мальчиков в ушах все еще нежно и мягко звучит, как далекое воспоминание, и не хочет погаснуть.
Мальчики поднялись до самого верха. Над головой мутный чернеющий край темной меди. Неясно вырезываются пролеты окон, а в пролетах в океане мрака — бесчисленные огни города.
Беззвучно, неровным мягким полетом что-то темное влетело и так же беззвучно-немо стало трепетно порхать над головами, скорее ощущаемое, чем улавливаемое глазом в темноте.
И этот беззвучно-трепетный полет разбудил страх, и он пополз сосущей мелкой холодной дрожью.