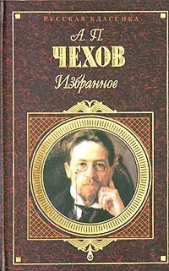Цвет и крест

Цвет и крест читать книгу онлайн
Издание состоит из трех частей:
1) Два наброска начала неосуществленной повести «Цвет и крест». Расположенные в хронологическом порядке очерки и рассказы, созданные Пришвиным в 1917–1918 гг. и составившие основу задуманной Пришвиным в 1918 г. книги.
2) Художественные произведения 1917–1923 гг., непосредственно примыкающие по своему содержанию к предыдущей части, а также ряд повестей и рассказов 1910-х гг., не включавшихся в собрания сочинений советского времени.
3) Малоизвестные ранние публицистические произведения, в том числе никогда не переиздававшиеся газетные публикации периода Первой мировой войны, а также очерки 1922–1924 гг., когда после нескольких лет молчания произошло новое вступление Пришвина в литературу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
День ото дня, однако, все тревожней становится, и в себе чувствую вроде как бы приказ: не зевай, Михаиле. Собрался я в темную, глухую ночь, прокрался на собачий двор, сгреб Флейту – и на конюшню в стойло, где стоит тот самый знаменитый Арап, на котором князь въехал в земское собрание. И только-только вскочил я на Арапа, слышу – начинается грабеж, валит народ на барский двор. Держу я Флейту в одной руке, на луке, в другой повод, и умывать, и умывать. Тридцать верст проскакал, будто живой рукой за молнию держался. Сказал зятю: «Спрячь, держи, чтобы ни одна живая душа собаку не видела». Сдал Флейтушку и опять умывать назад.
Все пошло против меня, против моих понятий; видно, правду говорил мой родитель-батюшка, что бык, черт и мужик одна партия: все признают за наше, а все тащат к себе, в свой дом. И закипела во мне тогда такая злость, какой до того в себе никак не сознавал. Лег я на голую лавку, сапоги под голову подложил и спал до вечера. Слышу, наконец, под самым моим окном гармонья рычит. Прохватился, подошел к окну, а там хромой Евтюха-горлан вот растягивает, вот надувается:
Бейте меня, колотите меня.
Коли вам надоел, вы жените меня.
Спрашиваю Евтюху, чего это там у ручья столы стелят.
– Это, – говорит, – моя свадьба, женят меня, приходи.
И моргнул мне, головой кивнул наверх, где винный завод. Вон она, какая свадьба-то выходит, нечего сказать, веселая.
Из окошка моего все было видно, и очень все казалось чудно: княжеские лакеи подают кушанья – по-господски, и тут же зарезанная свинья лежит, любители сало вырезают и на костре поджаривают – по-крестьянски. Смерклось, стемнело, и осталась наверху только узенькая как бы медная полоска, а по этой зорьке, вижу я, люди как черти черные с винтовками в руках крадутся, ползут. Минутным делом вышло: хлоп, хлоп, а красноармейцы не стали стрелять. И там уж на медной зорьке черная бочка показывается, кричат оттуда:
– При-ма-а-йтя.
Летит бочка по косогору, докатилась до ручья – кряк о камень и вдребезги. В затоне к воде прибавилось. Сверху же опять:
– При-ма-а-йте.
И другая бочка летит, и опять вдребезги, и еще в затоне прибавилось. Катали, катали, как яйца, и редкая цела доходила. Одну и вовсе дуром пустили, накось пошла, прямо на мой домик ручей перекатила, на сухом с силой взялась, подвалила ко мне на огород маленечко, словно подумала, не назад ли ей, и вдруг, здравствуйте, милости просим: перед самым моим окошком на попа стала.
Закуралесили на свадьбе немытые рыла, кто из разбитой бочки дохлебывает, кто прямо из ручья, а бабы кувшинами винную грязь таскают и таскают домой про запас.
Такую сотворили Халамееву ночь. Как тут можно думать было, что люди людьми удержатся и не пустят опять к власти князей… Переломилась в тот час душа моя надвое, и князей не хочу, и с этим народом жить тоже не радость. Вот я взял тогда и придумал себе: издохну. Взял я ведро, нацедил из бочки спирту, губу приложил и слышу сзади знакомый голос:
– Михаила Петров, ты издыхать собрался? Оглянулся я, а это Семен Демьяныч стоит с ноганом и весь в коже. Объяснил мне: завод защищал, да вот все его бросили.
– Давай же, – говорит, – вместе издохнем. Пьет и глядит на меня, пьет и глядит.
– Ну, – крикнул, – прощай, товарищ.
Гокнулся и всего себя спиртом облил. Нацедил и я другое ведро, стал рядом с покойником, и уж я лакал, лакал, уж я жег себя, жег… Ничего не помню, как я ведро выронил, как на земле очутился. А было мне, будто на небе вроде кабы аэропланы показались, и вот летят, вот летят из конца в конец, будто птицы на перелет. Стал я к ним ближе приглядываться и разобрал, – не аэропланы это, а мужики на кулях летят, как на аэропланах. Один так низенько надо мной протянул, я ему успел крикнуть, и голос мне ответил сверху:
– В Москву летим, муку менять? Халамееву ночь справлять.
Сел я на куль и только взвился на высоту, куль из-под меня и выскользни, и гок я на землю: голова болит, ноги, живот, – весь разбитый, весь поломанный, сижу и не чувствую, я это или не я. Тронул себя, ущипнул – чувствую, стало быть я. Тронул Семена Демьяныча.
– Ты? – спрашиваю.
– Я, – говорит.
– Стало быть, я не издох?
– Нет, не издох.
Выпили мы, опохмелились, в себя пришли, повеселели. И вот будто мы с того света явились или с горы Фавора: все на земле стало нам как бы в преображении. Там видим, бык в поле один ходит без коров – не бывает же так, овчонка, телушка – все разбрелось, а халдеи как лакали, так в грязи и лежат. Две бабы на камне сидят и вот голосят, вот голосят, будто в родительскую. Голуби стайками с крыши на крышу перелетают, и вороны кричат, надуваются, и все нам дивно, чудесно, и куда ни кинешь глазом, все не на своем месте, все переставилось.
– Ну, я по причине, – сказал Семен Демьяныч, – а ты отчего лег издыхать?
– Я тоже по причине; сам должен ты понимать, и их не хочу, обидели они меня, и князья мне ненавистны.
Вот тут-то и скажи Семен Демьяныч на грех:
– Ты, Михаила, сознаешь, почему же ты не берешь власть сам? Вынул из кармана пачку печатного, подает.
– Что это?
– Это, – говорит, – декреты. Человек ты грамотный, учи декреты и действуй. Так у меня тут будто хвист отвалился и крылья выросли. Взял я декреты, Семен Демьяныч мне мандат написал и наставляет:
– Учи, Михаила, декреты и помни, чтобы в точности все: сам видишь, вон эти люди лежат, как свиньи, власть над ними легко взять, да удержать трудно.
Так он мне власть передал, а сам в город, обещался живой рукой пулемет представить. Учу я декреты, смотрю, Артюшка подходит ко мне.
– Как же, – спрашиваю, – ты уцелел?
– Я-то, – говорит, – не диво, а вот как ты возле бочки сидишь и бумаги читаешь?
Показал я ему мандат, декреты, он подумал и говорит:
– Давай же вместе, я тоже маленько сознательный. Ух, и попер же у меня этот Артюха по деревням, только и слышишь везде его трубу:
– Гарнизуйтесь, гарнизуйтесь.
Набрал он каких-то безусых человек пятнадцать, у пьяных винтовки мы отобрали, вооружились, рассыпались по парку. А народ из чужестранных деревень все подваливает и подваливает и тоже: у кого винтовка, у кого наган. Обложили они нас с трех сторон. В парке же над озером было так, что раз выстрелишь – и будто сто раз ударило. Как начали мы палить, будто нас целый корпус. Вскоре и от Семена Демьяныча пулемет подвалил и зататакал. Загнали мы всю шатию-братию в грязь. Узнали они Халамееву ночь. И тут в эту самую ночь я утвердился во власти.
Смотрю теперь себе вслед, куда этот мой природный тихий человек девался, и вот оказывается, – нет, не знаем мы, на что способен каждый из нас. Вот есть у тебя умишко какой-нибудь, а приставь к нему власть – и сразу ты себе в тысячу раз умней покажешься, тот же человек и не тот. Семен Демьяныч все мне твердит: «Учи, Михаила, декреты», а мне уж смешно и слышать его старые понятия. Раз нам надо было собирать чрезвычайный налог, и так по декретам выходило, что это вроде как гуманность какая, народ, мол, для своей свободы жертвовать должен. Долго я с этой гуманностью сидел, бился, бился, уговаривал, упрашивал: ну, нет и нет начисто ни у кого. Раз случилось, был я сильно выпивши, я тогда дня не пропускал, – пришел ко мне тогда человек, стал на коленки, просит от налога избавить, клянется всеми святыми, что нет у него ничего, помянул даже и Богородицу. Противно мне стало, взял я и так легонечко его в зубы наганом толкнул. И вот тут удивление: выплюнул он зубы, вынимает из карманы деньги и все отдает. Тут сразу я все и понял, и в две недели таким способом собрал весь чрезвычайный налог, и в город представляю. Семен Демьяныч и рот разинул:
– Как это, – говорит, – тебе удалось так, Михаила?
– Посредством гуманности, – отвечаю.
Смеюсь я и знаю: самого Христа поставь собирать чрезвычайный налог, и он точно таким же способом соберет, как и я, посредством этой самой гуманности.
А между прочим, пошли дополнительные налоги, и конца им не было из-за гражданской войны. У меня же вдруг начали руки трястись, от вина ли или от своего поведения, право не знаю, просто скажу: заболел. Раз как-то сижу у себя дома, выпиваю в одиночестве, раздумываю, какая у всех ко мне ненависть, а сам я чувствую гуманность в себе, и так удивительно, что все это вместе. Гляжу я за окошко, а из перелесочка зайчик выходит: ковыль, ковыль. Моргнул я крепко, и нет зайца; значит, так только представилось. Вот я занялся закуской и потом искоса так для проверки глянул на то место, где зайчишка проковылял, а там теперь два, и передние лапки у обоих перебиты. Сморгнул я, и опять ничего. Артюшка стоит у окна с донесением, чтобы неотложно по важному делу мне в Совет на чрезвычайное заседание. «Хорошо, – отвечаю, – сейчас». Он и ушел. Поднялся, хочу идти, как меня кинет! А зайцы из леса валом валят, подстреленные, с перебитыми лапками, и впереди всех большой с лошадиной ногой; уши на небе, как тополя стоят, вот как сито пробиты дробинками, и сквозь ситинки звезды горят.