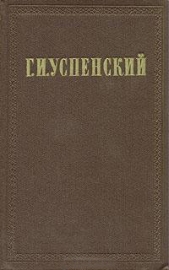Том 5. Крестьянин и крестьянский труд
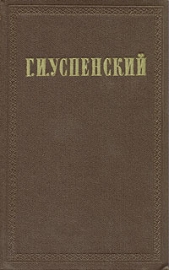
Том 5. Крестьянин и крестьянский труд читать книгу онлайн
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.
В пятый том вошли очерки «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», «Из разговоров с приятелями», «Пришло на память», «Бог грехам терпит», «Из деревенских заметок о волостном суде» и рассказ «Не случись».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я сидел у ворот дачи, когда он возвращался из волости.
— Ну что? — спросил я его как-то машинально.
— Посадил! — отвечал он, пожав плечами и поздоровавшись.
— Кого посадил?
— Да эту самую проститутку-то!.. Посадил в холодную.
— За что же?
— Да куда я ее дену? Доктор ждал, ждал — не дождался, обещался приехать после, а пока что оставил записку — «надзирать»… А как я буду надзирать за ней? Не караульщика же в самом деле нанимать мне… На какие деньги?.. Ну и распорядился запереть в темную… Накормить — накормят… А ведь так-то пустить на волю — она вон совсем уж голоса лишилась — так ее пустить нельзя.
— Почему же в холодную?
— Да куда же-с? Ведь нету… Ведь у нас ничего этого нету… Больница за пятьдесят верст… Ведь нету этого ничего… У нас холодная за все — и клиника и тюрьма, и исправляем, и отрезвляем, и внушаем — всё в одном месте. Запер в холодную — и все! Кабы какие прочие способы были или что-нибудь по-христиански, а то ведь нету. Холодная — это есть, — ну, и сажаем… Даже странники, которые, бывает, ко святым местам идут, ночевать просятся — и тех, бывало, в холодную на ночлег запираем, потому народ набаловавши, распустивши… Иной странник попросится ночевать, да и обмолебствует что-нибудь из сундука…
Старшина помолчал, отер платком лоб и проговорил:
— Конечно, воет, сидит… Я и сам понимаю, что за удовольствие за железной решеткой сидеть, да ведь, матушка моя, ничего не поделаешь… Ведь этакую болезнь в народе разводить — тоже не хвалят за это… Я уж и так отвечаю, отвечаю, уж и отвечать-то устал…
Прибавив своим рассказом к тяжелому впечатлению дня еще новую тяжелую и неприветливую черту, старшина ушел. Но этим дело не кончилось, и на другой же день последовало новое дополнение.
— Петр Петрович вас спрашивает, — сказали мне утром следующего дня.
Петр Петрович был все тот же старшина.
— Где он?
— Он на лошади, в телеге…
Я вышел на дорогу. Петр Петрович сидел, а внизу, в ногах у него, на мешке, сидела девочка лет четырех и во всю мочь заливалась горючими слезами. Вся она была в грязи, в одном ситцевом платьишке, которое заменяло и рубашку; ноги были босые, грязные, а голова простоволосая.
— Что мне вот с этой девочкой делать? Матку-то сегодня в лазарет отправили, а вот дочка осталась.
— Это той, про которую вы вчера рассказывали?
— Вот этой самой дочь… Мать-то, должно быть, не сказала доктору — думала, отпустит, — он уехал, приказав отвезть ее в лазарет, а про девочку ничего не сказано… Отдать к матери — ну-ко и девочка захворает? Так что бы чего — на ней неприметно, ничего худого… Оставить здесь — никто не берет, боятся. И в самом деле, может и девочка больна… Куда я с ней денусь?
Дня через два-три девочку эту удалось пристроить у одной вдовы; но теперь, в эту минуту, про которую я рассказываю, положение ее было самое трогательное.
— Взять?.. Но, может быть, она больна?.. Не взять, так куда же она денется?
К телеге подошло еще несколько человек, два мужика и баба. Все мы стояли и думали, но ничего не могли придумать.
— Ну куда я ее дену? — спрашивал старшина. — Да не кричи ты! Чего горло-то пялишь?.. Не пропадет твоя мамка…
— Больная ежели, не возьмут! — говорила баба, и мужики подтверждали.
«Холодная» и тут рисовалась как единственное нейтральное спасительное место, но оставить девочку в холодной было невозможно.
— Н-нет! — подумавши и покачав головой, проговорил один из зрителей и пошел прочь.
— Кабы знать, что здорова, а то нет! — сказала баба и тоже ушла.
— Если бы здорова… — сказал я.
— Ах ты, господи! — произнес старшина и после некоторого молчания и раздумья сказал кучеру: — Н-ну, делать нечего, трогай!..
— Куда ехать-то?
— Трогай, я тебе говорю!.. Поезжай прямо.
— Куда прямо? Ехать, так надо к месту.
— Да и без тебя знаю, что к месту. Не в лес поедем… Садись на передок-то!..
— Мне сесть-то недолго… А ехать-то куда? Мне тоже лошадь-то самому нужна.
— Ну не разговаривай, потрогивай!.. Знаем, куда ехать.
Говоря: «знаем, куда ехать», старшина, однако, не отдавал какого-либо определенного приказания; он поправлялся на сиденье, усаживался поудобнее, но видимо недоумевал, куда направить путь. Но вдруг его осенила мысль, он уселся и крикнул:
— Пошел назад! Поворачивай за реку!.. Не знаю, куда ехать… Авось найдем. Потрогивай-ка, а не разговаривай!
— Куда ж вы? — спросил я.
— А к старосте. Сдам ее — вот и все. Общество, так и отвечай за своих.
— А как и там никто не возьмет?
— А мне какое дело! Что я — нянька, что ли? У меня двое суток ушло, а мне каждый день пятнадцать целковых убытку… Поворачивай-ка с господом…
— А как не возьмет староста-то? — повторил я еще раз, когда телега стала поворачивать от дома на дорогу.
— А в холодную не хочешь? — обернувшись назад, ответил старшина и раскланялся.
Телега поехала назад, за реку, и девочка снова залилась горючими слезами.
Дня через два, через три, как я уже говорил, кое-как удалось устроить эту девочку у одной престарелой вдовы — это я знал наверное, — но что с нею, куда она девалась и где ее мать, до сих пор ничего не известно. Не раз встречаясь после того, как девочка была устроена, со старшиной, я спрашивал его и о девочке и о матери, но он ничего не знал. «Слава тебе господи, хоть с рук сбыл! — Ведь, ей-богу, и без этого хлопот не оберешься». Но зато неожиданный случай дал мне возможность узнать всю историю расстройства этой семьи, из которой вышли эта гулящая, избитая и больная мать, отправленная в лазарет, эта девочка, которая неизвестно где находится, и брат ее матери, про которого старшина сказал, что он пьянствует в Петербурге и не высылает денег на паспорт. Читатель помнит, что старшина не хотел высылать ему паспорта и что, следовательно, он волей-неволей должен был воротиться в деревню.
И он действительно воротился.
Несколько раз говорил я знакомым мужикам, чтоб они прислали кого-нибудь выкосить двор и сад при даче — они за лето сильно заросли травой, — и всякий раз мне говорили: «хорошо, ладно, придем или пришлем»; но так как пора работы была горячая, то отрываться от нее для такого ничтожного дела, как косьба сада, было не из чего. «Успеется». Но вот однажды в ворота дачи вошел человек, неся на плече косу; по-видимому, это был представитель той деревенской голи, которой так много теперь возвращается из столиц в деревни, с пьяными синяками по всему лицу, без копейки и иногда буквально без одежи, если не считать рубахи и штанов за единственную одежду, прикрывающую от непогоды. Роста он был высокого, в кости широк, но худ и вял, хоть и молод. При первом же взгляде на его лицо, носившее следы пьянства и болезни, нетрудно было видеть, что он только что продолжительно хворал. Голос, лазаретный цвет лица, голова, обстриженная под гребенку и местами совершенно облезлая, и какие-то розовые язвы, как бы чуть-чуть затянутые кожей, говорили, что он был болен крепко и притом нехорошо… (Я предупреждал читателей насчет непривлекательных подробностей и еще раз предупреждаю.) Сняв рыжий рваный куртуз и обнажив больную голову, он сказал, что прослышал насчет косьбы, и просил ему дать эту работу. «Что пожалуешь… — сказал он относительно цены. — Какая это работа!.. Нешто такие работы работывали?.. Теперь и косы-то вот нет». Коса была со сломанною ручкой, и лезвие ее, почерневшее от сырой травы, было тонко и глубоко выедено бруском: видно, что коса много послужила на своем веку.
Стал он косить. Косил плохо, хоть и с жаром принялся за работу: видно было, что он разучился, если и умел, и что недавняя болезнь ослабила его силы. С двух-трех взмахов покраснел, вспотел и уж вытирал лоб. И все время он говорил, что «так ли кашивали!.. Первый косак был… А теперь и косу-то занял у людей, и то насилу-насилу дали — хоть помирай». Разговорились мы, и скоро оказалось, что это тот самый Михайло, пьяница петербургский, про которого говорил старшина и сестру которого увезли в лазарет. Эта куча больных, и битых, и пьяных людей — без кола, без двора и без хлеба — невольно заставила меня подробнее расспросить о причине расстройства их семейства, и вот что об этом рассказал мне Михаиле.