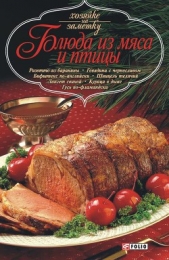Кровавый пуф. Книга 2. Две силы

Кровавый пуф. Книга 2. Две силы читать книгу онлайн
Первый роман знаменитого исторического писателя Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы» уже полюбился как читателю, так и зрителю, успевшему посмотреть его телеверсию на своих экранах.
Теперь перед вами самое зрелое, яркое и самое замалчиваемое произведение этого мастера — роман-дилогия «Кровавый пуф», — впервые издающееся спустя сто с лишним лет после прижизненной публикации.
Используя в нем, как и в «Петербургских трущобах», захватывающий авантюрный сюжет, Всеволод Крестовский воссоздает один из самых малоизвестных и крайне искаженных, оболганных в учебниках истории периодов в жизни нашего Отечества после крестьянского освобождения в 1861 году, проницательно вскрывает тайные причины объединенных действий самых разных сил, направленных на разрушение Российской империи.
Книга 2
Две силы
Хроника нового смутного времени Государства Российского
Крестовский В. В. Кровавый пуф: Роман в 2-х книгах. Книга 2. — М.: Современный писатель, 1995.
Текст печатается по изданию: Крестовский В. В. Собр. соч. в 8 тт. Т. 3–4. СПб.: Изд. т-ва "Общественная польза", 1904.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Итак, вам понравилась наша школа? — спросил Хвалынцева Котырло, пожимая ему руку с таким радушием, на которое, по-видимому, не могло воспоследовать ничего иного, кроме безусловного комплимента.
— А у вас в России есть подобные школы? — вслед за тем спросил он.
— Может быть и есть где-нибудь, — ответил Константин, — но, говоря откровенно, мне подобное устройство приходится видеть еще в первый раз.
— В России! — пренебрежительно подфыркнул себе под нос Василий Свитка. — В России ничего нет, кроме кнута и острога.
— Грустная истина! — вздохнул, подняв глаза вверх, пан Котырло. — Грустная и горькая истина!.. Но это потому, что в России вообще нет народа, в настоящем смысле этого слова.
Это замечание и удивило, и задело за живое Хвалынцева.
— Виноват, я это не совсем-то понимаю, — заметил он, — и вы конечно извините меня, если после ваших слов я спрошу вас: что вы называете народом?
— Народом!.. Народ — это мы, — уверенно с полным убеждением ответил Котырло.
— То есть… опять-таки прошу извинить меня: кто это мы? Для меня, русака, оно не совсем-то понятно.
— Мы, то есть цивилизованный слой Польши: духовенство, студентство, н-ну, пожалуй, ремесленники вообще, но, главнейшим образом, тот слой, который свято хранит в себе предания заветной вольной старины, предания свободы и Ржечи Посполитой, то есть шляхетство, магнатерия…
— Понимаю, но… все-таки магнатерия не народ.
— А что же? — подняв брови, живо спросил Котырло.
— Магнатерия — это магнатерия, то есть аристократия, каковой она была везде и повсюду, но это не народ.
В ответ на это Котырло улыбнулся очень вежливо, но очень тонкой улыбкой.
— Н-да, я согласен, — сказал он. — В России и даже, пожалуй, везде это так. Но в Литве и Польше, — а в Литве по преимуществу — народ это магнаты.
— Хм… не зная Литвы, не смею спорить, — сомнительно пожал плечами Хвалынцев. — Но мне кажется, что двадцать-тридцать фамилий еще не составляют того, что называется народом.
- О, да! Согласен!.. Ну, а двадцать-тридцать тысяч дворян-помещиков составляют его по-вашему или нет?
— По-нашему? Едва ли?!.. Да и вообще едва ли двадцать-тридцать тысяч составляют народ, там где есть несколько миллионов крестьян; не говорю уже о прочих не шляхетных сословиях.
— Ах, господа москали! Вот и все-то вы таковы! — досадливо, но стараясь не потерять вида любезности, воскликнул, пожимая плечами, пан Котырло. — У вас у всех, только Бога ради извините меня, — у вас у всех, говорю я, совершенно фальшивый взгляд на демократию. По-вашему выходит, что и Мирабо не смеет быть демократом потому только, что он граф Мирабо. Для вас демократия это — мужик, тогда как у нас, поляков, мужик — это есть в сущности не более как сырой, если только не мертвый экономический материал.
Хвалынцев, выпуча глаза, даже откинулся несколько назад от неожиданности такой фразы.
— Не пугайтесь кажущейся резкости такого определения, — мягко, взяв его за локоть, с сладкой убедительностью сказал Котырло. — Не пугайтесь, мой добрый и честный москаль!.. потому что, видите ли, по-нашему народ — это то, что живет, мыслит, чувствует, стремится к свободе, к знанию… то, что цивилизует, подымает нравственно, гуманизирует, образовывает темную, полудикую массу. Вот это народ по-нашему!
— А по-нашему, — возразил Хвалынцев, — это могло быть, пожалуй, вожаками народа, подобно тому как офицеры — вожаки солдат, да и то еще в таком только случае, если бы настоящий народ захотел и согласился признать их за вожаков своих, если бы они сами по духу и по крови принадлежали к тому же народу, были бы, так сказать, плоть от плоти его и кость от кости его.
— Э, Боже мой! — махнул рукой Котырло. — Опять-таки вы употребляете слово народ в вашем, извините меня, странном, исключительно московском смысле!
— Я иного не понимаю, — заметил Хвалынцев. — Для меня нет иного понятия в слове народ; для меня это только совокупность всех живых сил отдельной нации, без всяких каст, сословий и различий по происхождению, образованию, капиталу и по чему бы то ни было. Мы не выделяем из народа ни мужика, ни аристократа, ни невежды, ни цивилизованного.
— Хорошо, — согласился Котырло; — но какую же активную силу имеет сама по себе эта темная, нецивилизованная масса, инертивная по самой своей природе? Ведь для хлопа, как и для вашего крестьянина, нет других интересов, кроме интересов его желудка, то есть кроме экономических интересов.
— У нас были 1612 и 1812 годы, — скромно заметил Хвалынцев.
— Ну, опять-таки те же самые экономические интересы, — возразил Котырло, — потому что в первом случае поляки, а во втором французы мешали вашему «народу» отправлять свои естественные, экономические надобности. Мы хорошо понимаем, что «народа» в его настоящем полудиком состоянии не сдвинешь с экономической почвы, и потому-то мы образовываем, цивилизуем его, стараемся всевозможными усилиями поднять его на высоту того гражданственного сознания, что он и мы — народ единый и нераздельный. Не мы до него спускаемся, но его до себя подымаем, и неужели же вы за это осудите нас?
Хвалынцев, не имевший почти никакого понятия об исторических отношениях польской шляхты к ее «быдлу», мог только отдать полную дань похвалы и почтения таковому гуманному стремлению.
— Да-с!.. И вот потому-то, — продолжал Котырло, — шляхетство наше, которое создало для себя такую благородную миссию, и имеет все права называться народом по преимуществу. Мы еще только подготовляем мужика, но интеллигенция наша, дворянство наше, духовенство наше — у всего этого только и есть один великий лозунг: "великая, всецелая и нераздельная наша старая Польша".
VI. Маленький опыт слияния с народом
Прибежал запыхавшийся казачок и объявил, что гости едут. Пан Котырло заторопился навстречу этим новым гостям.
По тополевой аллее шибкою рысью приближался шикарный фаэтон, запряженный парою добрых узкошеих и длинноухих коней польской породы. Блестящая упряжь отличалась польско-краковским характером. Кучер в кракуске, с расшитой пелериной, с рядами блестящих наборчатых блях на поясе, с длинным бичом в руке, которым он так громко, так щегольски похлопывал, а сам глядел молодцом и словно бы настоящим кракусом. Гайдук на запятках, не менее молодцевато и как бы беспечно, крестом на груди сложив свои руки, сидел, видимо красуясь своей конфедераткой и чамаркой серого сукна, с зеленой оторокой. Он даже был вооружен револьвером и охотничьим ножом на лакированной портупее, в том роде, как у посланничьих выездных лакеев, и таким образом являл собою как бы стража и телохранителя своего пана, который с сигарой в зубах, в изящнейшем парижском костюме, небрежно покоился на эластических подушках своего фаэтона. Поравнявшись с Котырло, этот пан привстал в своем экипаже и, проносясь мимо, сделал «манифестацию» своей гарибальдийкой, широким размахом руки поднял ее над своею тщательно завитой расчесанной и напомаженной головой. Судя по его «люишке» и по вытянутым в мышиные хвостики усам, Хвалынцев принял было его за характерного француза, но, по объяснению пана Котырло, оказалось, что это Селява-Жабчинский, местный мировой посредник, либерал и bon-vivant, живший большей частью то в Париже, то в Варшаве, и притом большой «авантурник». Теперь для Хвалынцева стало ясно, почему наружность его столь напоминает и парикмахера, и светского шулера вместе. Сильно набеленная и нарумяненная дама, которая сидела подле него, могла бы показаться если не матушкой, то по крайней мере почтенной тетушкой этого господина; но оказалось, что некрасивая, хотя и желающая быть прелестной, особа — ни больше, ни меньше, как богатая супруга пана посредника; причем значительная разница лет, вероятно, не служила помехой для их семейного счастья.
Фаэтон, сопровождаемый разливистым лаем собак, шикарно подкатил к крыльцу сломяного палаца. Паненки и паничи повыбегали навстречу. Ахи, восклицания, поцелуи — словом: все радости приятнейшей встречи сопровождали прибытие этой четы, которая и по состоянию, и по посредничьему положению пользовалась в избытке ласкательным вниманием и почетом. Тотчас появился завтрак с неизменной "старой литевкой", с жирной «кавой» и всевозможными вкусностями домашней кладовой и кухни. А тем часом и еще новые гости подъехали: пан асессорж Шпарага и пан Косач — земский заседатель. Это, конечно, были гости не важные, но тем не менее люди нужные, и потому отказу в любезностях для них тоже не было, хотя пан Котырло, как родовитый состоятельный шляхтич, бывший «маршалок» и "чуть не магнат" держал себя пред Шпарагой и косачем с заметным оттенком благосклонного к ним достоинства.