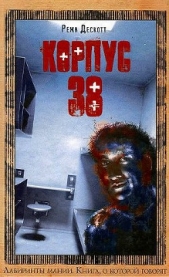Раковый корпус
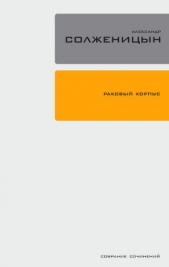
Раковый корпус читать книгу онлайн
В третьем томе 30-томного Собрания сочинений печатается повесть «Раковый корпус». Сосланный «навечно» в казахский аул после отбытия 8-летнего заключения, больной раком Солженицын получает разрешение пройти курс лечения в онкологическом диспансере Ташкента. Там, летом 1954 года, и задумана повесть. Замысел лежал без движения почти 10 лет. Начав писать в 1963 году, автор вплотную работал над повестью с осени 1965 до осени 1967 года. Попытки «Нового мира» Твардовского напечатать «Раковый корпус» были твердо пресечены властями, но текст распространился в Самиздате и в 1968 году был опубликован по-русски за границей. Переведен практически на все европейские языки и на ряд азиатских. На родине впервые напечатан в 1990.
В основе повести – личный опыт и наблюдения автора. Больные «ракового корпуса» – люди со всех концов огромной страны, изо всех социальных слоев. Читатель становится свидетелем борения с болезнью, попыток осмысления жизни и смерти; с волнением следит за робкой сменой общественной обстановки после смерти Сталина, когда страна будто начала обретать сознание после страшной болезни. В героях повести, населяющих одну больничную палату, воплощены боль и надежды России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– А вообще зачем вы там живёте?
Костоглотов почесал нос:
– Мне там климат очень нравится.
– И нет транспорта?
– Да почему, хо-одят машины, сколько хотите.
– Но зачем всё-таки туда поеду я?
Она смотрела искоса. За то время, что они болтали, лицо Костоглотова подобрело и помягчело.
– Вы? – Он поднял кожу со лба, как бы придумывая тост. – А откуда вы знаете, Зоенька, в какой точке земли вы будете счастливы, в какой – несчастливы? Кто скажет, что знает это о себе?
4
Хирургическим больным, то есть тем, чью опухоль намечено было пресекать операцией, не хватало места в палатах нижнего этажа, и их клали также наверху, вперемежку с «лучевыми», кому назначалось облучение или химия. Поэтому наверху каждое утро шло два обхода: лучевики смотрели своих больных, хирурги – своих.
Но четвёртого февраля была пятница, операционный день, и хирурги обхода не делали. Доктор же Вера Корнильевна Гангарт, лечащий врач лучевых, после пятиминутки тоже не пошла сразу обходить, а лишь, поравнявшись с дверью мужской палаты, заглянула туда.
Доктор Гангарт была невысока и очень стройна – казалась очень стройной оттого, что у неё подчёркнуто узко сходилось в поясном перехвате. Волосы её, немодно положенные узлом на затылок, были светлее чёрных, но и темней тёмно-русых – те, при которых нам предлагают невразумительное слово «шатенка», а сказать бы: чёрно-русые – между чёрными и русыми.
Её заметил Ахмаджан и закивал радостно. И Костоглотов успел поднять голову от большой книги и поклониться издали. И она обоим им улыбнулась и подняла палец, как предупреждают детей, чтоб сидели без неё тихо. И тут же, уклоняясь от дверного проёма, ушла.
Сегодня она должна была обходить палаты не одна, а с заведующей лучевым отделением Людмилой Афанасьевной Донцовой, но Людмилу Афанасьевну вызвал и задерживал Низамутдин Бахрамович, главврач.
Только в эти дни своих обходов, раз в неделю, Донцова жертвовала рентгенодиагностикой. Обычно же два первых лучших утренних часа, когда острей всего глаз и яснее ум, она сидела со своим очередным ординатором перед экраном. Она считала это самой сложной частью своей работы и более чем за двадцать лет её поняла, как дорого обходятся ошибки именно в диагнозе. У неё в отделении было три врача, все молодые женщины, и, чтобы опыт каждой из них был равномерен и ни одна не отставала бы от диагностики, Донцова кругообразно сменяла их, держа по три месяца на первичном амбулаторном приёме, в рентгенодиагностическом кабинете и лечащим врачом в клинике.
У доктора Гангарт шёл сейчас этот третий период. Самым главным, опасным и наименее исследованным здесь было – следить за верною дозировкой облучения. Не было такой формулы, по которой можно было бы рассчитать интенсивности и дозы облучений, самые смертоносные для каждой опухоли, самые безвредные для остального тела. Формулы не было, а был – некий опыт, некое чутьё и возможность сверяться с состоянием больного. Это тоже была операция – но лучом, вслепую и растянутая во времени. Невозможно было не ранить и не губить здоровых клеток.
Остальные обязанности лечащего врача требовали только методичности: вовремя назначать анализы, проверять их и делать записи в тридесяти историях болезни. Никакой врач не любит исписывать разграфлённые бланки, но Вера Корнильевна примирялась с ними за то, что эти три месяца у неё были свои больные – не бледное сплетение светов и теней на экране, а свои живые постоянные люди, которые верили ей, ждали её голоса и взгляда. И когда ей приходилось передавать обязанности лечащего врача, ей всегда было жалко расставаться с теми, кого она не долечила.
Дежурная медсестра, Олимпиада Владиславовна, пожилая, седоватая, очень осанистая женщина, с виду солиднее иных врачей, объявила по палатам, чтобы лучевые не расходились. Но в большой женской палате только как будто и ждали этого объявления – сейчас же одна за другой женщины в однообразных серых халатах потянулись на лестницу и куда-то вниз: посмотреть, не пришёл ли сметанный дед; и не пришла ли та бабка с молоком; заглядывать с крыльца клиники в окна операционной (поверх забеленной нижней части видны были шапочки хирургов и сестёр и яркие верхние лампы); и вымыть банку над раковиной; и кого-то навестить.
Не только их операционная судьба, но ещё эти серые бумазейные обтрепавшиеся халаты, неопрятные на вид, даже когда они были вполне чисты, отъединяли, отрывали женщин от их женской доли и женского обаяния. Покрой халатов был никакой: они были все просторны так, чтоб любая толстая женщина могла в любой запахнуться, и рукава шли безформенными широкими трубами. Бело-розовые полосатые курточки мужчин были гораздо аккуратнее, женщинам же не выдавали платья, а только – эти халаты, лишённые петель и пуговиц. Одни подшивали их, другие – удлиняли, все однообразно затягивали бумазейные пояса, чтоб не обнажать сорочек, и так же однообразно стягивали рукою полы на груди. Угнетённая болезнью и убогая в таком халате, женщина не могла обрадовать ничьего взгляда и понимала это.
А в мужской палате все, кроме Русанова, ждали обхода спокойно, малоподвижно.
Старый узбек, колхозный сторож Мурсалимов, лежал, вытянувшись на спине поверх застеленной постели, как всегда в своей вытертой-перевытертой тюбетейке. Он уж тому, должно быть, рад был, что кашель его не рвал. Он сложил руки на задышливой груди и смотрел в одну точку потолка. Его тёмно-бронзовая кожа обтягивала почти череп: видны были реберки носовой кости, скулы, острая подбородочная кость за клинышком бородки. Уши его утончились и были совсем плоские хрящики. Ему уже немного оставалось досохнуть и дотемнеть до мумии.
Рядом с ним средолетний казах чабан Егенбердиев на своей кровати не лежал, а сидел, поджав ноги накрест, будто дома у себя на кошме. Ладонями больших сильных рук он держался за круглые большие колени – и так жёстко сцеплено было его тугое ядрёное тело, что если он и чуть покачивался иногда в своей неподвижности, то лишь как заводская труба или башня. Его плечи и спина распирали курточку, и манжеты её едва не рвались на мускулистых предлокотьях. Небольшая язвочка на губе, с которой он приехал в эту больницу, здесь под трубками обратилась в большой тёмно-багровый струп, который заслонял ему рот и мешал есть и пить. Но он не метался, не суетился, не кричал, а мерно и дочиста выедал из тарелок и вот так спокойно часами мог сидеть, смотря никуда.
Дальше, на придверной койке, шестнадцатилетний Дёма вытянул больную ногу по кровати и всё время чуть поглаживал, массировал грызущее место голени ладонью. А другую ногу он поджал, как котёнок, и читал, ничего не замечая. Он вообще читал всё то время, что не спал и не проходил процедур. В лаборатории, где делались все анализы, у старшей лаборантки был шкаф с книгами, и уже Дёма туда был допущен и менял себе книги сам, не дожидаясь, пока обменят всей палате. Сейчас он читал журнал в синеватой обложке, но не новый, а потрёпанный и выгоревший на солнце – новых не было в шкафу лаборантки.
И Прошка, добросовестно, без морщин и ямок застлав свою койку, сидел чинно, терпеливо, спустив ноги на пол, как вполне здоровый человек. Он и был вполне здоров – в палате ни на что не жаловался, не имел никакого наружного поражения, щёки были налиты здоровою смуглостью, а по лбу – выложен гладкий чубчик. Парень он был хоть куда, хоть на танцы.
Рядом с ним Ахмаджан, не найдя с кем играть, положил на одеяло шашечную доску углом и играл сам с собой в уголки.
Ефрем в своей бинтовой, как броневой, обмотке, с некрутящейся головой, не топал по проходу, не нагонял тоски, а, подмостясь двумя подушками повыше, без отрыву читал книгу, навязанную ему вчера Костоглотовым. Правда, страницы он переворачивал так редко, что можно было подумать – дремлет с книгой.
А Азовкин всё так же мучился, как и вчера. Он, может быть, и совсем не спал. По подоконнику и тумбочке были разбросаны его вещи, постель вся сбита. Лоб и виски его пробивала испарина, по жёлтому лицу переходили все те искорчины болей, которые он ощущал внутри. То он становился на пол, локтями упирался в кровать и стоял так, согнутый. То брался обеими руками за живот и складывался в животе. Он уже много дней в комнате не отвечал на вопросы, ничего о себе не говорил. Речь он тратил только на выпрашивание лишних лекарств у сестёр и врачей. И когда приходили к нему на свидание домашние, он посылал их покупать ещё этих лекарств, какие видел здесь.