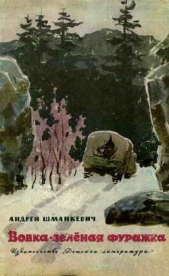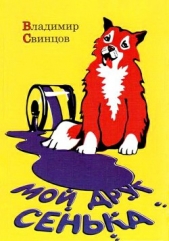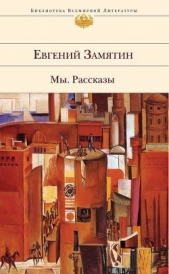Любовь Сеньки Пупсика (сборник)

Любовь Сеньки Пупсика (сборник) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
4
Зазевавшись на улицах, попал Степан Топориков к своему дому; стоял под навесом подъезда, за спиной болталась винтовка.
Швейцариха Настя, мать Степана, тыкала пальцем в замызганный на отделку пиджак и произносила горькие слова:
— Скажите на милость, какой корешок выискался! Мотался, мотался и домотался! Так тебе, проходимцу, и следует, большевик завшивый!
— Какой ни на есть, не тебе разбираться! — огрызался тот.
Швейцар Василий позеленел с лица, схватил сына за ворот и заорал в ярости:
— Нечего тебе, гадюка, желторотый черт, на родную мать белки пялить! Мать она тебе или не мать, я тебя спрашиваю?
В это время свистнула пуля-дура и ухлопала швейцариху наповал. У подъезда набухла толпа. В луже крови лежала на земле швейцариха, и глаза ее смотрели вверх без всякого выражения.
— Убийцы! — кричал истошно Василий, — убили, дьяволы! Настю убили, швейцариху!
Степка замешался в народ, за одно плечо, за другое, и пошел наутек.
5
За революционную бдительность и высокий рост назначили Топорикова Степку в Смольный, сначала часовым у главного входа, потом наверх, — в этажи поважнее.
В тревожной черноте питерских ночей, в океане, — огромный, изнутри светящийся океанский корабль. Галдят грузовики, лязгает артиллерия, дымятся походные кухни, затворы щелкают. В двери вливаются мохнатые толпы, на штыки часовых нанизаны пропуски, красные, серые, белые.
Внутри, в корабле — солдатские шинели, винтовки, обоймы, пулеметы. Проплывают в табачной мути обожженные порохом лица. Актовый зал — жаркий котел, центральная топка, со столов не слезают ораторы. Голосовые связки надорваны, опухли от бессонницы веки, растрескались губы. Шипят полы от тысячи шагов, тонут в листовках, в плевках, в окурках. Воздух сизый и плотный, ноябрьский ветер бессилен пробиться в открытые фортки, институтское электричество днем и ночью горит и не светит.
Люди валятся с ног, засыпают на окнах, в углах и вдоль стен, на полу в коридорах. Звериный храп под сводами дортуаров; рваные сапоги, в грязи и в глине, свисают с девичьих узких кроватей…
Топориков стоит на часах; не штык, а цветная гирлянда. Шипят полы под тысячью шагов.
— Пропуск, товарищ! Проходи, не отсвечивай!
Чешут паркет сапожищи, в окопной грязи, в дорожной глине — минской, самарской, челябинской; липнут к подошвам окурки и листовки.
Въехал в самую гущу Топориков. Сердце революции, океанский корабль в ноябрьском шторме. Шинели, обоймы, ручные гранаты, обожженные порохом бородатые лица, знамена, окопные вши.
«Руками за горло, коленом на грудь!»
— Пропуск!
6
Зима. Девятнадцатый год. Ропшинская улица, № 8.
В неотопленной комнате иней покрыл железные перила кровати. Тем не менее, именно эта комната во всей квартире считалась жилой. Остальные пять были заперты наглухо, изъяты из обихода, из памяти.
Щели в дверях заложены мятой бумагой.
Там, за этими дверями, остался ненужный балласт, потерявший значение и всякую связь с действительностью: излишняя кубатура; рояль, в котором от холода лопнули струны; голубые Поповские чашки; дубовый письменный стол; полки с книгами; сундуки, чем попало набитые доверху.
Люди уподобились аэронавту, сбрасывающему на землю свои ботинки, чтобы легче было подыматься в разреженном, леденящем воздухе.
На столе, в неотопленной комнате, считавшейся жилой, в крохотной баночке с деревянным маслом, коптил червячок фитиля. Тени были громадные, диккенсовские. На стене висела в декадентской раме гравюра, изображающая коронацию Шарлеманя; к стеклу прилипла уснувшая муха. В редких случаях совершались полярные экспедиции по ту сторону заложенных бумагой дверей, короткие вылазки в страну паутин и мороза. Как пленки, брошенные в проявитель, оживали тогда странные, далекие сны — при взгляде на пожелтевший крахмальный воротник, на футляр от очков, чернильницу из малахита, — оживая, тревожили на мгновенье и снова уходили в небытие.
Спать ложились в шубах и валенках, накрываясь грудой одеял. На перилах, около самой подушки, от теплого дыхания понемногу оттаивал иней. По одеялам бегали, попискивая, мыши.
Спящим снился сыпняк.
7
Поезд Реввоенсовета, Летучий Голландец революции.
Два паровоза — два ревущих снаряда. В первом вагоне — аппараты Вуза и типография. Во втором — сам наркомвоен с ревштабом. В третьем технический персонал и чины личной охраны. Последний, четвертый вагон — открытая платформа, на платформе — торпеда защитного цвета, 30 лошадиных сил.
Стонут рельсы на много верст впереди, вздрагивают шпалы, гудят мосты: прет поезд революции.
В третьем вагоне лежат валетом на койке Проскуров Яша и Степка Топориков, чины охраны. Топориков — старший.
Голос у Проскурова теноровый, Проскуров поет:
Топориков слюнявит цигарку, и дрёма, легкие мечтательные полусны опутывают его голову. Кому не известен этот благостный и непрочный отрыв от жизни в вечерний час? Этот час бывает розовым в деревне, когда из синеющей рощи, с лугов и полей подымаются, усиливаясь к ночи, сонные ароматы земли. В городах, где копоть и дым закрывают небо, тот же час бывает серо-лиловым. Тогда загораются фонари вдоль тротуаров, исчезают архитектурные подробности домов, очертания улиц становятся кубическими, упрощенными, обобщенными. В этот сумеречный час неодолимую прелесть обретает власть недосмотренных, неувиденных, неосуществленных снов.
Проскуров поет, на стене качаются винтовки, пахнет каменным углем. В коридоре дремлет дежурный.
Степка зевает, переклеивает цигарку с одной губы на другую. Вечер стремительно клонится к ночи. За окном — ливень огня в черноте. Стонут рельсы, качаются мерно винтовки, ночную темь сверлит Летучий Голландец…
А утром в покрытые нежной росой стены вагонов забарабанил пулемет. Поезд вздрогнул в лязге и грохоте, уперся всеми тормозами в колеса, на минуту замер на месте и дал задний ход. Схватив ружье, Топориков выбежал на площадку. Проскуров прыгнул со ступенек на шпалы.
— Яшка, назад! — кричал Топориков, — назад, болван!
Проскуров кубарем скатился под откос и, свернувшись калачиком, заснул под насыпью у самой канавы.
8
«Поговорим о березовых рощах. Поговорим без излишней чувствительности, но все же с оттенком умиления до ласковой радости…
Особенно хороши березовые рощи на пригорках. Это потому, что сквозь белые, пятнистые ряды стволов, отовсюду по кругу сверкает, сочится небо. Снизу, над нежными травами, небо бледно-зеленое, зыбкое, но чем выше, тем ярче оно голубеет, тем прекраснее синева, а над самой головой — торжествующе синее, бурно-синее, обильное, неиссякаемо глубокое — покрывает небо прозрачную и трепетную зелень листвы.
В низинах и на болотцах береза не такая прямая и белая. Правда, гриб, подберезовик, родится здесь чаще, но и он бывает слишком тонок, непрочен и большеголов, и растет вперемешку с желтыми и мутно-красными сыроежками, а иногда и просто бок о бок с поганками.
На ровных зеленых холмах, окруженных лазурью, береза сильна, широка и пряма. Ее крепкое тело, ее парящие, размашистые ветви туго обтянуты белой лайкой и замшей; листья политы смарагдовым лаком, плотные, клейкие, круглые. Желтые капельки куриной слепоты в траве, еще какие-то голубые и белые венчики, а трава мягка и гостеприимна: лечь ничком, лежать с открытыми глазами, вдыхать березовый покой вместе с запахом белых стволов, сладкого сока березы, трав и цветов, запахом яблочным, квасным, удивительным! Тихий звон жуков, безвольные полеты ранних апрельских бабочек и (если, приподнявшись, опереться на локоть) — внизу, под пригорком, в синеватых полях — телеграфные столбы вдоль сверкающих рельс и черное кружево железнодорожного моста…»