Нонсенс

Нонсенс читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Алло! Алло! Зарифа? Алло!
- Да, да! Я вас слушаю... Кто это?
- Это я, Зарифа, черт бы побрал всю эту телефонную связь в Баку! Алло!
- А, наконец-то! Теперь получше слышно, да?
- Кто говорит?
- Это я, Салман.
- А-а, я не узнала.
- Могла бы сказать - богатым будешь.
- Да уж ты-то обязательно будешь.
- Ты на что намекаешь?
- Ни на что. Ты говори, что хотел.
- Нет, сначала ты скажи, что ты имела в виду, когда сказала, что уж я-то обязательно буду богатым.
- Ну ты привяжешься - не отстанешь, почище своего папочки. С вами и пошутить нельзя.
- Кстати, о папочке. Ты говорила с ним?
- Говорила. Как и следовало ожидать, разговор никаких результатов не дал. Он попросил не совать нос в его дела.
- Ясно. Значит, у меня успехов больше.
- Что ты хочешь сказать? Ты что-то придумал?
- Удивительная прозорливость.
- А что именно? Говори скорее, пока не забыл.
- Будешь издеваться, ни слова ни скажу.
- Ну, ради бога, говори, что ты придумал.
- Сейчас... Подожди, я закурю...
- Ох ты, господи... Ну же!
- В общем, я придумал, как быть насчет старика.
- Прекрасно. И как?
- Но надо будет подождать, немного подождать. И еще я хотел сказать, потребуются деньги.
- Салман, только честно, ты опять принялся за старое?
- Клянусь тебе, что нет! Честное слово.
- Верю, верю... А деньги?
- У нас в городе все должно оплачиваться, ты же знаешь! Вот мне и потребуются деньги. Пока точно не знаю сколько, но думаю, что... ну, скажем, рублей пятьсот, может, семьсот...
- Ты думаешь, я могла бы тебе их дать?
- А почему бы и нет? Ты же знаешь, если б у меня были деньги, я вообще по этому поводу не обращался б к тебе.
- Не знаю даже, как быть. У меня своих нет. Надо будет спросить у Ялчына, но вряд ли он что-нибудь даст. Он, во-первых, решительно не хочет вмешиваться в дела старика, во-вторых, он такую сумму просто не даст, если б еще сотня, а то сразу пятьсот-семьсот...
- Может, и больше, это я приблизительно сказал.
- А тем более, что больше. Нет, нет, Салман, на него не рассчитывай. Заранее тебе говорю. Придумай что-нибудь полегче, чем брать в долг у Ялчына. Кстати, ты мне так и не сказал, что же ты придумал конкретно.
- Конкретно пока я ничего не скажу тебе. Просто позвонил, чтобы ты знала, я нашел выход из этого смешного положения.
- Но ты хоть скажи, что...
- Нет, узнаешь раньше времени - разболтаешь.
- Клянусь тебе, что не разболтаю!
- Нет, нет, не клянись зря, ничего не выйдет, наберись лучше терпения, все узнаешь в свое время.
- Я сгораю от любопытства.
- На то ты и женщина. Поэтому я тебе и не скажу. Узнаешь - станешь сгорать от желания поделиться с кем-нибудь.
- Клянусь тебе...
- Хватит об этом! Одно тебе могу сказать: я нашел, пожалуй, единственно верное решение. Только надо немного подождать. Было бы неплохо, если б ты все-таки раздобыла немного денег...
- Я же тебе сказала, Ялчын не даст, а у кого же еще я могу взять?
- Может, у папы?
- Что ты! Папа это воспримет как шаг к примирению со стороны Ялчына... Ведь в денежных вопросах я ничего без ведома Ялчына не предпринимаю, и папе это известно. Ялчын будет в бешенстве, когда узнает... Нет, нет, ни за что, только не это. Пока нельзя.
- Ну ладно, сам что-нибудь придумаю.
- Салман, я тебя прошу, расскажи все-таки, что конкретно... Я клянусь тебе па...
Но тут в трубке послышались короткие отбойные гудки, не дав Зарифе возможность в очередной раз поклясться здоровьем ее обожаемого родителя.
Прошло две недели со дня установки памятника Кязыму на его необитаемой могиле. Соответствующие инстанции посчитали просьбу Кязыма редчайшим "загробным", а вернее будет сказать, "догробным" курьезом, пожали плечами, и, так как "дело Кязыма" не очень ущемляло общественные интересы, ублаженные стариком, они посмотрели на этот, не имеющий прецедента случай, сквозь пальцы.
Мраморная статуя, изображавшая Кязыма в позе призадумавшегося великого поэта, гордо возвышалась над не шедшими ни в какое сравнение с ней другими надгробными возвышениями. Памятник стоял за оградой, отмечавшей границы широчайшего участка, на котором без труда можно было бы похоронить человек пятнадцать и где в спешном порядке по совету архитектора были посажены молодые платаны, с тем, чтобы своими разлапистыми ветвями подчеркивать величественную, классическую строгость форм памятника из черного мрамора и еще больше выделять его торжественную печаль в этой обители скорби. Впрочем, что касается Кязыма, надо сказать, что обитель скорби для него оказалась не таким уж отталкивающим местом. Очень скоро он полюбил приезжать сюда, благо, путь из города был недалеким - полчаса на машине, и ты, то есть он, на кладбище, у себя на могиле. Сюда его с каждым днем, чтобы не сказать с каждым часом (что тоже было бы вполне справедливо) все сильнее тянуло. Тишина тут была изумительная - раз. Воздух свежий, чудесный, даже получше, чем на бульваре, пожалуй. Это два. Хорошо тут было, сидя в тени платанов, думать о разном, вспоминать свою долгую, непутевую, беспорядочную жизнь, которая и непонятно на служение чему ушла, вспоминать свои молодые годы, вспоминать, вспоминать; даже величайшие глупости и ошибки, совершенные в жизни, и те было сладко и волнующе-грустно вспоминать... В ясную, теплую погоду, приехав на кладбище, Кязым плотно усаживался на удобную скамейку под своим памятником на полутораметровом пьедестале и невольно предавался мечтам и воспоминаниям, часто с бьющимся сердцем взглядывая наверх на торжественный мрамор, от коего скульптор Мурад так умело отсек все лишнее, что памятник и Кязым как две капли воды были похожи друг на друга. Поначалу, приходя к себе на могилу (естественно, сторож кладбища был в курсе этой грандиозной причуды и в первые дни не мог скрыть усмешки, видя старика, сидящего под статуей и умильными взглядами лобызающего ее), Кязым немного стеснялся такой явной схожести, от которой он пришел в восторг, когда в мастерской Мурад показал ему окончательно завершенную работу. Он отворачивался, когда мимо ограды проходили люди, пришедшие почтить память своих усопших. Как-то, шагая мимо, один из посетителей кладбища обратился к другому: "Ты только посмотри! Просто удивительно, до чего похожи! Он, наверное, брат того несчастного, что лежит тут..." - "А может, и близнецы..." - после паузы предположил второй голос. Кязым отвернулся, втянул голову в плечи, стараясь не смотреть в их сторону.
- Да упокоит аллах твоих умерших, - обратился один из них к Кязыму.
- Да упокоит аллах ваших умерших, - ответил Кязым, чуть обернув к ним лицо, почесывая перстнем на пальце переносицу.
Но постепенно стеснение Кязыма проходило, и он даже стал гордиться схожестью, гордиться тем, что у него есть такой дорогой и замечательный памятник, которым любуются люди. И появилось ощущение завершенности своей жизни, словно все его земные дела давно уже закончены на этом свете и памятник был как бы своеобразной точкой, подводящей итог его существованию, и теперь оставалось лишь умереть спокойно. От этой мысли становилось горячо на сердце, легко становилось доживать на свете оставшееся, покойно делалось на душе... Теперь, завидя людей, он, отвлекшись от тихих мыслей своих, вытягивал шею, вертел головой, явно стараясь, чтобы обнаружили сходство между памятником и им, сидящим на скамейке. Но в обычные дни, кроме четвергов, когда поминали умерших, людей на кладбище приходило очень немного, а чаще и вовсе не было все-таки не город, село, - и ничего не отвлекало Кязыма от его неспешных, несуетливых мыслей о жизни, о смерти, о предназначении и тщете всего сущего на земле, о вечности, стирающей все, о мудрости пророка Магомета, предвидевшего расцвет цивилизации за много лет вперед; думал он и о том, что такое время, и могут ли все подчиняться одному общему времени, или оно у каждого свое в зависимости от любви к жизни, что такое мир, вселенная, и зачем человек на земле, и зачем он, Кязым, на земле, в чем заключалось его предназначение, ведь не мог же он просто так, как песчинка, принесенная ветром, прийти в мир и так же просто уйти из него, в чем-то было его предназначение, но в чем, в чем, и смог ли он выполнить его, смог ли? Множество вопросов всплывало в душе Кязыма, и он, не зная ответа на большинство из них, не умея на них ответить, усиленно думал... И чем больше он думал, тем горше становилось ему, тем печальнее и темнее становилось на сердце. Зато каждый раз хоть и грустный, но какой-то необычайно просветленный, чистый, будто оставил здесь, избавился от грязи, нажитой за долгие годы, уезжал отсюда Кязым, чувствуя, что стал за эти часы, проведенные у памятника, чуточку лучше, чуточку добрее, а значит, и мудрее... Чувствовал он, что теперь, когда почти ежедневно его здесь, на могиле, посещают такие возвышенные мысли и так трепещет взволнованная душа его, он ни за что не мог бы окунуться в мелочную, суетливую жизнь, какую вел всегда, какую и считал своим предназначением, бездумно, как машина, все глубже погружаясь с годами в грязь, по уши погружаясь в грязь, позволял себе забыть о таких простых и прекрасных понятиях, как совесть, честь, добро, забывая, что главное в жизни - творить добро своему ближнему и любить человека и что нет и не может быть более возвышенного и мудрого дела на земле, чем это. Подолгу, пригорюнившись, иной раз невзначай пустив старческую слезу, сидел Кязым, порой до самых сумерек, под своим памятником, приучившим его в преклонном возрасте задумываться над простыми вещами, о которых не было времени думать раньше, когда и жилось бездумно, жилось, как зверю лесному живется, с опорой на одну лишь хитрость и силу клыков. Думал об этом Кязым, и 'пропащей казалась ему вся его неправедная жизнь. И как же тут не поплакать, тем более если тебе, то есть ему, Кязыму, уже за восемьдесят? ("Кстати, юбилей-то зажал старикан... Не отпраздновал..." Впрочем, с кем? Тоже верно. Никто и не вспомнил, что старикану стукнуло и что время его пошло отсчитывать девятый десяток.) И Кязым покидал кладбище просветленный настолько, что готов был плакать за рулем своей машины на обратном пути в город. Что неоднократно и делал, опасаясь из-за слез, стоявших в глазах, врезаться в какую-нибудь машину. И тогда он вынужден был останавливаться, успокаиваться, вытирать глаза платком, и только окончательно успокоившись, продолжал свой путь, тяжко время от времени вздыхая, горестно качая головой и хлюпая носом.


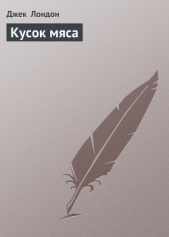
![Большой кусок мира [Большой кусок света]](/uploads/posts/books/11735/11735.jpg)




















