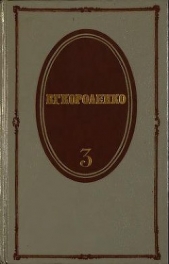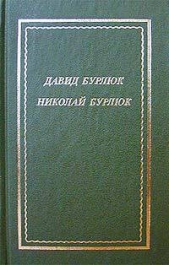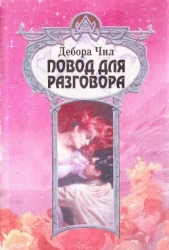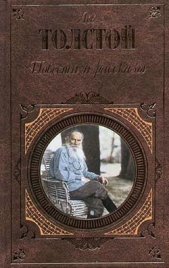Том 14. Произведения 1903-1910 гг

Том 14. Произведения 1903-1910 гг читать книгу онлайн
В том вошли повести и рассказы Л. Толстого последнего периода творчества (1903–1910 гг.) — «После бала», «Хаджи-Мурат», «Фальшивый купон» и другие.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Время это было очень веселое. Нас возили в Царское. Мы катились на лодках, копались в саду, гуляли, катались на лошадях. Константин, толстенький, рыженький, un petit Bacchus [49], как его называла бабушка, веселил всех своими шутками, смелостью и выдумками. Он всех передразнивал, и Софью Ивановну и даже саму бабушку.
Важным событием за это время была смерть Софьи Ивановны Бенкендорф. Случилось это вечером в Царском, при бабушке. Софья Ивановна только что привела нас после обеда и что-то говорила, улыбаясь, как вдруг лицо ее стало серьезно, она зашаталась, прислонилась к двери, скользнула по ней и тяжело упала. Сбежались люди, нас увели. Но на другой день мы узнали, что она умерла. Я долго плакал и скучал и не мог опомниться. Все думали, что я плакал об Софье Ивановне, а я плакал не о ней, а о том, что люди умирают, что есть смерть. Я не мог понять этого, не мог поверить тому, чтобы это была участь всех людей. Помню, что тогда в моей детской пятилетней душе восстали во всем своем значении вопросы о том, что такое смерть, что такое жизнь, кончающаяся смертью. Те главные вопросы, которые стоят перед всеми людьми и на которые мудрые ищут и не находят ответы и легкомысленные стараются отстранить, забыть. Я сделал, как это свойственно ребенку, и особенно, в том мире, в котором жил: я отстранил от себя эту мысль, забыл про смерть, жил так, как будто ее нет, и вот дожил до того, что она стала страшна мне.
Другое важное событие в связи с смертью Софьи Ивановны был переход наш в мужские руки и назначение к нам в воспитатели Николая Ивановича Салтыкова. Не того Салтыкова, который, по всем вероятиям, был нашим дедом, а Николая Ивановича, служившего при дворе отца, маленького человечка с огромной головой, глупым лицом и всегдашней гримасой, которую удивительно представлял маленький брат Костя. Переход этот в мужские руки был для меня горем разлучения с милой Прасковьей Ивановной, прежней няней.
Людям, не имевшим несчастия родиться в царской семье, я думаю, трудно представить себе всю ту извращенность взгляда на людей и на свои отношения к ним, которую испытывали мы, испытывал я. Вместо того естественного ребенку чувства зависимости от взрослых и старших, вместо благодарности за все блага, которыми пользуешься, нам внушалась уверенность в том, что мы особенные существа, которые должны быть не только удовлетворяемы всеми возможными для людей благами, но которые одним своим словом, улыбкой не только расплачиваются за все блага, но награждают и делают людей счастливыми. Правда, от нас требовали учтивого отношения к людям, но я детским чутьем понимал, что это только видимость и что это делается не для них, не для тех, с кем мы должны быть учтивы, а для себя, для того, чтобы еще значительнее было свое величие.
Какой-то торжественный день, и мы едем по Невскому в огромном, высоком ландо: мы, два брата, и Николай Иванович Салтыков. Мы сидим на первом месте. Два напудренных лакея в красных ливреях стоят сзади. Весенний яркий день. На мне расстегнутый мундир, белый жилетик и по нем голубая андреевская лента, так же одет и Костя; на головах шляпы с перьями, которые мы то и дело снимаем и кланяемся. Народ везде останавливается, кланяется, некоторые бегут за нами. «On vous salue, — повторяет Николай Иванович. — A droite» [50]. Проезжаем мимо гауптвахты, и выбегает караул.
Этих я всегда вижу. Любовь к солдатам, к военным экзерцициям у меня была с детства. Нам внушали — особенно бабушка, та самая, которая менее всех верила в это, — что все люди равны и что мы должны помнить это. Но я знал, что те, кто говорят так, не верят в это.
Помню, раз Саша Голицын, игравший со мной в бары, толкнул меня и сделал больно.
— Как ты смеешь!
— Я нечаянно. Что за важность!
Я чувствовал, как кровь прилила мне к сердцу от оскорбления и злобы. Я пожаловался Николаю Ивановичу, и мне не было стыдно, когда Голицын просил у меня прощения.
На нынче довольно. Свеча догорает. И надо еще нащепать лучины. А топор туп и наточить нечем, да и не умею.
16 декабря.
Три дня не писал. Был нездоров. Читал Евангелие, но не мог вызвать в себе того понимания его, того общения с богом, которое испытывал прежде. Прежде много раз думал, что человек не может не желать. Я всегда желал и желаю. Желал прежде победы над Наполеоном, желал умиротворения Европы, желал освобождения себя от короны, и все желания мои или исполнялись и, когда исполнялись, переставали влечь меня к себе, или делались неисполнимы, и я переставал желать. Но пока эти исполнялись или становились неисполнимыми прежние желания, зарождались новые, и так шло и идет до конца. Теперь я желал зимы, она настала, желал уединения, почти достиг этого, теперь желаю описать свою жизнь и сделать это наилучшим образом, так, чтобы принести пользу людям. И если исполнится и если не исполнится, явятся новые желания. Вся жизнь в этом.
И мне пришло в голову, что если вся жизнь в зарождении желаний и радость жизни в исполнении их, то нет ли такого желания, которое свойственно бы было человеку, всякому человеку, всегда, и всегда исполнялось бы или, скорее, приближалось бы к исполнению? И мне ясно стало, что это было бы так для человека, который желал бы смерти. Вся жизнь его была бы приближением к исполнению этого желания; и желание это наверное исполнилось бы.
Сначала это мне показалось странным. Но, вдумавшись, я вдруг увидал, что это так и есть, что в этом одном, в приближении к смерти, разумное желание человека. Желание не в смерти, не в самой смерти, а в том движении жизни, которое ведет к смерти. Движение же это есть освобождение от страстей и соблазнов того духовного начала, которое живет в каждом человеке. Я чувствую это теперь, освободившись от большей части того, что скрывало от меня сущность моей души, ее единство с богом, скрывало от меня бога. Я пришел к этому бессознательно. Но если бы я поставил своим высшим благом (а это не только возможно, но так и должно быть), считал бы своим высшим благом освобождение от страстей, приближение к богу, то все, что придвигало бы меня к смерти: старость, болезни, было бы исполнением моего единого и главного желания. Это так, и это я чувствую, когда я здоров. Но когда я, как вчера и третьего дня, болею желудком, я не могу вызвать этого чувства и, хотя и не противлюсь смерти, не могу желать приближаться к ней. Да, такое состояние есть состояние сна духовного. Надо спокойно ждать.
Продолжаю вчерашнее. То, что я пишу про свое детство, я пишу больше по рассказам, и часто то, что мне про меня рассказывали, перемешивается с тем, что я испытал, так что я не знаю иногда, что я пережил и что слышал от людей.
Жизнь моя, вся, от рождения моего и до самой теперешней старости, напоминает мне местность, всю покрытую густым туманом, или даже после сражения под Дрезденом, когда все скрыто, ничего не видно, и вдруг тут и там открываются островки, des éclaircies [51], в которых видишь ни с чем не соединенных людей, предметы, со всех сторон окруженные непроницаемой завесой. Таковы мои детские воспоминания. Эти éclaircies в детстве только редко, редко открываются среди бесконечного моря тумана или дыма, потом чаще и чаще, но даже и теперь у меня есть времена, не оставляющие ничего в воспоминании. В детстве же их чрезвычайно мало, и чем дальше назад, тем меньше.
Я говорил об этих просветах первого времени: смерти Бенкендорфши, прощанье с родителями, передразниванье Кости, но и еще несколько воспоминаний того времени теперь, когда я думаю о прошедшем, открываются передо мной. Так, например, я совершенно не помню, когда появился Костя, когда мы стали жить вместе, а между тем живо помню, как мы раз, когда мне было не более семи, а Косте пяти лет, мы после всенощной накануне рождества пошли спать и, воспользовавшись тем, что все вышли из нашей комнаты, соединились в одной кроватке. Костя в одной рубашке перелез ко мне и начал какую-то веселую игру, состоящую в том, чтобы шлепать друг друга по голому телу. И хохотали до боли живота и были очень счастливы, когда вдруг вошел в своем расшитом кафтане с орденами Николай Иванович с своей огромной напудренной головой и, выпучив глаза, бросился на нас и с каким-то ужасом, которого я никак не мог объяснить себе, разогнал нас и гневно обещал наказать нас и пожаловаться бабушке.