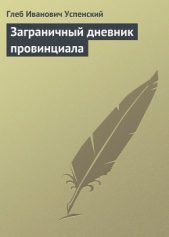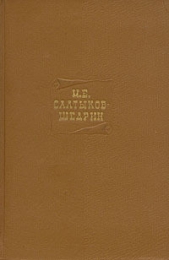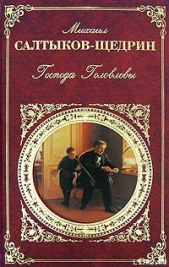Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала
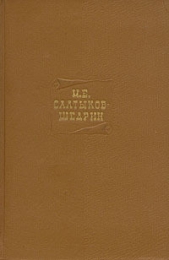
Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В десятый том входит одна из наиболее известных книг Салтыкова — «Господа ташкентцы», которая возникла на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века и, как всегда у этого писателя, была нерасторжимо связана с тогдашней русской действительностью. Также в том входит «Дневник провинциала в Петербурге».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Затем, прощаясь с читателями до следующего нумера, в коем постараемся обстоятельнейше объяснить нашу profession de foi [420], воскликнем: с нами наше право, а затем, да пребудет над нами божие благословение!»
Хозяин умолк. В публике раздавались сдержанные восклицания: «Прекрасно!», «Мастерски!», «Bien écrit et surtout bien pensé!» [421]
Но я почти обезумел от скуки. Никогда я так ясно не сознавал, что пора пить водку, как в эту минуту. Прокоп, очевидно, следил за выражением моего лица, потому что подошел ко мне, как только кончилось чтение.
— Уйдем! на тебе лица нет! тошнит тебя, что ли! (Он вдруг начал говорить мне «ты».)
Мы вышли; нас охватила лунная, морозная петербургская ночь.
— Айда к Палкину! — скомандовал Прокоп извозчику, — я, брат, нынче все у Доминика да у Палкина развлекаюсь: напитки тут крепки. Есть устрицы у Елисеева, да ужинать у Дюссо̀ тогда хорошо, когда на сердце легко. Концессию там выхлопотываешь или Шнейдершу облюбовываешь — ну, и тянет тебя к легкому напитку. А как наслушаешься прожектов «об уничтожении» да «о расстрелянии», так на сердце-то сделается так моркотно, так моркотно, что рад целую четверть выпить, чтобы его опять в прежнее положение привести! А какова статейка-то?
— Гм… да… статья… это…
Вспомнив про статью, я так обозлися, что не своим голосом закричал на извозчика: пошел!
— Да, брат, за такие статейки в уездных училищах штанишки снимают, а он еще вон как кочевряжится: «Для того, говорит, чтобы понятно писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнейше обзнакомиться с русским языком…» Вот и поди ты с ним!
Мы пробеседовали у Палкина до двух часов. Съели только по одному бифштексу, но выпили…
Одним словом, мы вышли на улицу, держась под руки. Кажется, даже мы пели песни.
На другой день утром, вероятно в видах скорейшего вытрезвления, Прокоп принес мне знаменитый проект «о расстрелянии и благих оного последствиях», составленный ветлужским помещиком Поскудниковым. Проекту предпослано вступление, в котором автор объясняет, что хотя он, со времени известного происшествия *, живет в деревне не у дел, но здоровье его настолько еще крепко, что он и на другом поприще мог бы довольно многое «всеусерднейше и не к стыду» совершить. А коль скоро человек в чем-нибудь убежден, то весьма естественно, что в нем является желание в том же убедить и других. Отсюда попытка разъяснить вопрос: отчего все сие происходит? а затем и осуществление этой попытки в форме предлагаемого проекта.
«Отчего все сие происходит?» — конечно, от недостатка спасительной строгости. Если бы, например, своевременно было прибегнуто к расстрелянию, то и общество было бы спасено, и молодое поколение ограждено от заразы заблуждений. Конечно, не легко лишить человека жизни, «сего первейшего дара милосердого творца», но автор и не требует, чтобы расстреливали всех поголовно, а предлагает только: «расстреливать, по внимательном всех вин рассмотрении, но неукоснительно». И тогда «все сие» исчезнет, «лицо же добродетели, ныне потускневшее, воссияет вновь, как десять лет тому назад».
Некоторые мотивы, которыми автор обусловливает необходимость предлагаемой меры, не изъяты даже чувствительности. Так, например, в одном месте он выражается так: «Молодые люди, увлекаемые пылкостью нрава и подчиняясь тлетворным влияниям, целыми толпами устремляются в бездну, а так как подобное устремление законами нашего отечества не допускается, то и видят сии несчастные младые свои существования подсеченными в самом начале (честное слово, я даже прослезился, читая эти строки!). А мы равнодушными глазами смотрим на сие странное позорище, видим гибель самой цветущей и, быть может, самой способной нашей молодежи, и не хотим пальцем об палец ударить, чтобы спасти ее. Устремим же наши спасительные ладьи для спасения сих утопающих! подадим руку помощи этим несчастным увлекающимся юношам! Сделаем все сие — и тогда с спокойною совестью скажем себе: мы совершили все для ограждения детей наших!»
Но всего замечательнее то, что и вступление, и самый проект умещаются на одном листе, написанном очень разгонистою рукой! Как мало нужно, чтоб заставить воссиять лицо добродетели! В особенности же кратки заключения, к которым приходит автор. Вот они:
«А потому полагается небесполезным подвергнуть расстрелянию нижеследующих лиц:
Первое, всех несогласно мыслящих.
Второе, всех, в поведении коих замечается скрытность и отсутствие чистосердечия.
Третье, всех, кои угрюмым очертанием лица огорчают сердца благонамеренных обывателей.
Четвертое, зубоскалов и газетчиков».
И только.
Вечером мы были на рауте у председателя общества чающих движения воды, действительного статского советника Стрекозы *. Присутствовали почти всё старики, и потому в комнатах господствовал какой-то особенный, старческий запах. Подавали чай и читали статью, в которой современная русская литература сравнивалась с вавилонскою блудницей *. В промежутках, между чаем и чтением, происходил обмен вздохов (то были именно не мысли, а вздохи).
— Где те времена, когда пел сладкогласный Жуковский? когда Карамзин пленял своею прозой? — вздыхал один.
— «Как лебедь на брегах Меандра…» * — зажмурив глаза, вздыхал другой.
— Увы! из всей этой плеяды остался только господин Страхов! * — вздыхаючи вторил третий.
— Куда мы идем? куда мы идем! — вздыхал четвертый.
Старцы задумывались и в такт покачивали головами. Очень возможное дело, что они так и заснули бы в этой позе, если бы от времени до времени не пробуждал их возглас:
— И это литература! Куда мы идем?
Я пробыл у действительного статского советника Стрекозы с девяти до одиннадцати часов и насчитал, что в течение этого времени, по крайней мере, двадцать раз был повторен вопрос: «куда мы идем?» Это произвело на меня такое тоскливое, давящее впечатление, что, когда мы вышли с Прокопом на улицу, я сам безотчетно воскликнул:
— Куда же мы в самом деле идем?
— Сегодня я сведу тебя к Шухардину *, — ответил Прокоп, — а завтра, если бог грехам потерпит, направим стопы в «Старый Пекин».
Опять два бифштекса и, что̀ всего неприятнее — опять возвращение домой с песнями. И с чего я вдруг так распелся? Я начинаю опасаться, что если дело пойдет таким образом дальше, то меня непременно когда-нибудь посадят в часть.
На третий день раут у председателя общества благих начинаний, отставного генерала Проходимцева. Приходим и застаем компанию человек в двенадцать. Всё отставные провиантские чиновники, заявившие о необыкновенном усердии во время Севастопольской кампании. У всех на лице написано: я по суду не изобличен, а потому надеюсь еще послужить! Общество сидит вокруг чайного стола; хозяин читает: [422]
— Прекрасно? не в бровь, а прямо в глаз!
— Куда мы идем? скажите, куда мы идем?
— Позвольте, господа! послушайте, что дальше будет!