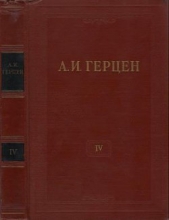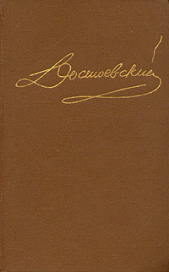Том 2. Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник
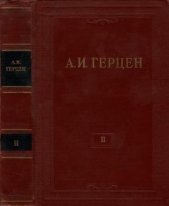
Том 2. Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
30. Языков написал еще два стихотворения: одно против нас же, другое против Чаадаева, более оскорбительное и подлое, нежели первое, – гадкая котерия, стоящая за правительством и церковью и смелая на язык, потому что им громко отвечать нельзя. Они, кроме Аксакова и Киреевских, не имеют тени гуманности и благородства. И что за сумбур в голове у этих людей! Недавно я вытеснял на чистую воду Хомякова из-за леса фраз, острот, анекдотов, которыми он уснащает свою речь, и он вывертывался старыми понятиями идеализма, битыми мистическими представлениями.
Тысяча восемьсот сорок пятый год
Январь месяц.
3. Кажется, в частном отношении, жизнь моя, наконец, потекла поспокойнее. Прошлый год был тих. А какая пестрая и богатая эффектными положениями жизнь, как много для воспоминания – едва теперь я начинаю объективно смотреть на это былое. 10 лет тому назад я новый 1835 год встретил в тюрьме. Только десять лет – и что с тех пор событий! Уж десять лет, а кажется – вчера только или очень недавно!
В самый Новый год длинное письмо Огарева – он развивается и притом как-то одинаково со мной, с нами. Впрочем, сверх близости души, одна атмосфера современной мысли обнимает нас.
6. Казнь Чеха как-то тупа, король плакал – а велел казнить. Министры умоляли казнить его тайком утром. В Шпандау отрубили ему голову и объявили афишами. Чех выдержал характер до последней минуты и, след., остался победителем. Не понимаю, как такие простые вещи, как ненужность казней, вред их не бросаются в глаза правительствам. Еще в Испании, где все метется в каком-то опьянении, понятно, что Нарваэз казнит своих врагов, так как его самого, очень может быть, казнят завтра. Но тут спокойно, gemütlich und romantisch [418], отрубить голову при современных понятиях – глупо, безрасчетно даже, потому что человек твердый реабилитируется казнию и обращает к себе симпатии. Еще глупее, ежели прусские министры-доктринеры, Эйхгорн-историк, например, думает остановить будущих охотников до стрельбы этим средством; неужели вся история на всякой странице не говорит им, что не токмо ни одного фанатика никогда не останавливала казнь, до даже людей, увлеченных случайной страстью? Тут проглядывает совсем иное – месть, просто месть, жажда крови дерзкого, который даже не раскаялся, не дал случая показать милосердия на себе, потому что не просил его.
Два наказания только могут остановить человека – это угрызение совести и общественное мнение; без уважения к себе от самого себя и от ближних человек жить не может, никакие казни не могут сравниться с постоянным сознанием своей гнусности и справедливости презрения от других. Человек готов на всякую епитимию, он будет на лобном месте просить прощение, пойдет в иное место (т. е. сам сошлет себя), только чтоб примириться с собою, ибо в раздоре этом он задохнется.
Разумеется, совесть и общественное мнение в неразвитом народе сливаются в религиозной нравственности, в велениях свыше; критериум, внешний закон заменяет недостаток сознания о добре и зле, о человечественном и нечеловечественном. Отчего русский крестьянин один на дороге не ест скоромного, в то время как за нарушение поста он наказан не будет, а березу на большой дороге срубит, хотя сам знает, что за это его накажут розгами, плетьми? Есть переходные полосы государственной жизни, где религиозная и всякая идея нравственности теряется, как, например, в современной России, но и тут, если совесть некоторых молчит, общественное мнение, слабое, неразвитое, все же отталкивает безусловно гнусное. Отчего нигде, никогда в обществе не бывает полицейских чиновников, – если переодетые шпионы, пользуясь анонимностью, и являются, то явных нет. Наказание – совершенная нелепость в развитом государстве, и в будущем будут удивляться, как правительство вступало в соревнование с каждым злодеем и делало такую же мерзость над ним, которую он сделал, с тем различием, что он был более или менее вынужден обстоятельствами, а правительство – так, без всякой нужды. Казни – это абсолютные преступления, поэзия преступлений. Но где же истинное, непогрешающее мерило того, что хорошо, и того, что дурно для человека? В самом понятии человека, развивающееся в истории, в историческом моменте, в среде, в которой он вырос; хорошо все то, что развивает слитно родовое и индивидуальное значение человека; дурно, если индивидуальное, феноменальное совершенно поглощает общечеловеческое, дурно, если тело совершенно задавит дух, – но наказывать (scilicet [419] в развитом государстве) и за это нельзя, такие люди будут презираемы, а дело положительных законодательств – чтоб эти отрицательные люди не могли положительно вредить, как безумные, как дураки, как животные. Критериум добра и зла всегда есть в человеке, как бы он ни выражался под влиянием исторической эпохи, – человек, который отрицает его, дурачится, лжет. Стоит слушать формальные фразы говорящего, и ясно увидишь, как он понимает вместе с своим народом или кастой добро и зло. Слово «честь» разве не было на устах Цезаря Борджиа, ненарушимость обета разве и им не принималась в основу договора и пр.? Но он нарушал их. В этом то и доказательство, что он индивидуальную волю свою, удовлетворение страсти ставил выше всеобщего понятия о нравственности своего времени. Ну, как же не наказать его? Во-первых, он и не был наказан, – il état trop haut placé [420], чтоб быть наказанным, а если б он был менее высоко поставлен, то он не мог бы сделать всего того, что он сделал, и тогда суд был бы иной над ним. Зачем же гражданское общество было еще на той жалкой степени развития, что не могло провести своих же понятий о чести, о христианских обязанностях и пр., а во всех проявлениях жизни было непоследовательно, путалось в противуречиях? Зачем оно имело таких преступников, которых не достигал закон, и такой закон, который разил чаще всего не по преступникам? В наше время, на западе Европы можно себе представить плантатора, злодея работников, мужа-варвара, развратника, убийцу, вора ‒ но не Цезаря Борджиа; ну, что сделал бы такой Цезарь, – купил бы журнал, ругал бы противников в фельетоне, подкупал бы голоса и, может, вышел бы фродюлезно [421] на дуэль. Вот насколько современная Франция и Англия стоят выше тогдашней Италии. Если же представить себе будущую общественную форму, когда вопрос о голоде и обжорстве, о наготе и пышности приведется в порядок, когда невозможно будет остаться без воспитания никому, – ни сыну богача, ни сыну нищего, – когда самое значение слова «богач» будет бессмысленно по ненужности, – сколько изменится в нравственном быту того класса, который теперь фурнирует maximum преступников – плебса! Тогда образцовые кнуты будут не нужны, я думаю.
7. Кстати, к наказаниям. Вот случай, рассказанный Тучковым. В Пензенской губернии какой-то помещик, великий злодей, страшно тяжел пришелся крестьянам; молодой крестьянин сказал односельцам, что он намерен избавить их от «отца общины», – те перепугались суда, последствий и пр. Молодой человек сказал, что всё возьмет на себя, что лишь бы они о нем молились богу, что никому не достанется. Таким образом, он отправился на плотину, через которую помещик должен был идти, и à la G. Tell стал его ждать; когда тот пошел, он побежал ему навстречу, схватил его вперехват – и вместе в омут. Оба утонули. Это античный героизм. Полагаю, что такого человека смертная казнь in spe [422] не очень остановила бы. При всей неразвитости русского его останавливает «на миру будет стыдно»; он уважает мнение своей общины; боится он помещика – это другое, это рабство, он ему повинуется, оскорбляясь, а там он признаёт.
10. Славянофилы, наконец, более и более являются узенькими людьми раскола. Стихи Языкова с доносом на всех нас привели к объяснениям, которые, с своей стороны, чуть не привели к дуэли Грановского и Петра Киреевского, – я в душе ненавижу не принцип дуэлей, а нелепость смертной казни за оскорбление этого принципа, однако делать было бы нечего. После всего этого, наконец, личное отдаление сделалось необходимым. Аксаков торжественно расстался с Грановским и мною – видно было, что ему жаль, он благороден, чист, но односторонен, ограничен в своем расколе. Мы дружески сказали друг другу, что служим иным богам и что потому должны разойтиться один направо, другой налево; уважение ему как характеру я не могу отказать. Они, может, оба Киреевские уносят личное уважение, а остальные – чорт с ними! Самарин не думаю, чтоб их был.