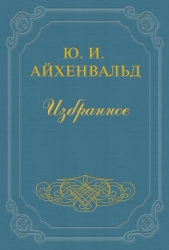Путешествие Глеба

Путешествие Глеба читать книгу онлайн
В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) печатается главный труд его жизни – четырехтомная автобиографическая эпопея «Путешествие Глеба», состоящая из романов «Заря» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950) и «Древо жизни» (1953). Тетралогия впервые публикуется в России в редакции, заново сверенной по первопечатным изданиям. В книгу включены также лучшая автобиография Зайцева «О себе» (1943), мемуарный очерк дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб «Я вспоминаю» и рецензия выдающегося литературоведа эмиграции К. В. Мочульского о первом романе тетралогии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Аудитория распалялась. Среди комитетчиков, взволнованных, распаренных, вдруг увидел Глеб длинные усы Артюши, его университетский мундир и дубинку на ремешке – видимо, Артюша явился с запозданием. Пахнуло домашним – Лизой, Вилочкой, Арбатом. Глеб сразу ощутил, что должен высказаться. Вскочил, пробрался к кафедре. Измученный Евстафьев пытался навести порядок, но трудно было: говорило уже сразу двое. А тут еще Глеб просил слова. Артюша дружественно ему закивал. Евстафьев крикнул Глебу в отчаянии: «Коллега, вы же видите, что происходит! – И потом, в безотзывное пространство – Коллеги, довольно! Президиум считает вопрос исчерпанным». Глеб перебил: «Нет, почему же, я тоже могу предложить…» Как и многие, Глеб искренно думал, что вот именно он и скажет вполне правильно, но никто уже ничего не слушал, все орали каждый свое. Белобрысый студент рядом с Глебом кричал, что бастовать надо для того, чтобы добиться от правительства конституции.
Глеб раздражился: «При чем тут конституция?» – «А при том, что царизм надо свергнуть». – «Это глупо, разве мы сможем свергнуть правительство? И для чего?» Белобрысый студент крикнул, что поддержат рабочие массы. Глеб долдонил свое – нечто вроде того, что надо ходатайствовать за арестованных студентов – сооральник вполне возмутился: не просить, а требовать. И вообще так могут рассуждать только белоподкладочники и шкурники. «Маменькины сынки, боитесь бастовать, на второй год остаться, чертежей своих не дочертить…» – «Я никакой не маменькин сынок и ничего не боюсь». Белобрысый продолжал громить врагов, принявших для него облик Глеба. Глеб побледнел, у него затряслись губы, перехватывало в горле. Припадки такие он знал – еще минута, еще градус, и он просто вцепится в воротник этого болвана – как некогда, ребенком, сражался с Юзепчуком. «Шкурники все говорят, что не боятся, а дойдет до дела, и в кусты». – «Я не шкурник…» Но белобрысый гремел уже что-то другому, а с кафедры подхихикивали Глебу глазки Артюши. (Вот-вот того и гляди пустится Артюша в самую неподходящую минуту в пляс. Гоп, мои гречаники, гоп, мои…)
Все же наступило голосование. За забастовку – против.
Бледный, злой, Глеб видел тоже бледного Андобурского во весь рост на подоконнике, к нему жались сочувствующие. Большинство теснилось к кафедре. «Я шкурник? Я боюсь чертежей и остаться на второй год?» Если бы Глеб в эту минуту был покойнее, он бы честно признал, что ему вовсе не хочется ни терять года, ни быть высланным – тем более, арестованным. А-а, но если он «шкурник», у которого нет никаких благородных порывов, который ничем не пожертвует для сидящих в тюрьме товарищей и только трепещет – тогда наплевать, вот именно он и покажет, он и докажет… Ничего он не боится.
Когда началось голосование, Сережа Костомаров, пробравшийся к Андобурскому, с изумлением увидал, что Глеб поднял руку – «Да, быть забастовке» – близ самой кафедры. «Что с ним такое? С ума сошел?»
Глеб с ума не сходил, но забастовку поддержал. Если бы и не поддержал, она прошла бы: большинство было за нее. И аплодировало своей победе. Враги отступали. Андобурский взывал еще с подоконника, но уже тщетно. «Коллеги, – крикнул Клингер, – забастовка начинается немедленно. Комитет сообщит профессорам. Студенчество не пойдет на лекции! Студенчество не должно ходить в чертежные, лаборатории. Мы клеймим именем шкурника того, кто нарушит волю студенчества».
Так как Глеб стоял у кафедры, Артюша без труда протиснулся к нему, обнял. «Я ж так и знал, что вы с нами! Молодчина, настоящий студент! Мы им теперь укрутим хвоста!»
Кругом молодые, возбужденные лица. На многих тоже уверенность, что вот кому-то там («наверху») укрутят хвоста. Одним словом, праздник!
Глеб точно бы перескочил через что-то – прыгнул и теперь летит, как во сне прыгают с четвертого этажа: легко, приятно и не расшибешься.
Артюша подтащил его к Евстафьеву, представил. Евстафьев добродушно улыбнулся, отирал платочком пот с лысины. Глеб чувствовал, что уж он здесь свой, в каком-то потоке, молодом и бурном. Подходили студенты, точно уж давно знакомые, чуть ли не друзья. Даже Клингер не так показался неприятен.
– Коллеги, в чертежную! Выбирать старост, десятских!
Через несколько минут Глеб в чертежной. Вот он в самом ядре, это ближайшие забастовке люди, здесь в несколько минут выбраны старосты, налаживают и десятских. У каждого свой десяток, десятский должен обходить подвластных, убеждать, чтобы держались твердо, объяснять смысл забастовки и так далее. «Коллега, вы согласны стать десятским?» Глеб замялся: «Сумею ли…» – «Тут уметь нечего, надо быть убежденным и не бояться. Шкурникам, белоподкладочникам мы и не предлагаем».
Какой же Глеб шкурник? Или белоподкладочник? Кто посмел бы это подумать? И хотя он не уверен, удастся ли ему… у него нет опыта… – но уже поздно. Он серьезный студент, «сознательный», «нам такие именно нужны».
Недалеко столик, где распределяют десятских. Пришлось подождать в очереди. Бритый студент в пенсне, довольно строгий, записал его адрес в целую колонку других. Самому же ему дал бумажку, на ней десять фамилий, тоже с адресами: подчиненные его, подопечные. Он пастырь, они овцы. «Не забудьте, центр связи – коллега Клингер. Немецкая, дом Шапошникова». Глеб понял – у Клингера главный штаб, туда надо являться, сообщать о десятке, получать указания.
Пока же дела никакого. Глеб спрятал свою бумажку, потолкался в толпе, вышел из Училища. Студенты тоже расходились. Теперь все здесь умолкнет, а если кто-нибудь попытается прийти – на лекции, в чертежные, – то особые группы будут стеречь: не пустят.
Странно все, странно. Вот проезжают на рыжих лошадях синие жандармы. Два часа назад это просто были жандармы. Теперь враги. Враг будет и Сережа Костомаров, с которым вместе учились в Калуге – если вздумает взяться за свой чертеж. А друзья – Артюша, Евстафьев, Клингер… еще разные. Ну, а этот его «десяток»? Фамилии все незнакомые. Он должен их убеждать. Убедит ли? И как это делается? А если они вовсе не хотят ни бастовать, ни поддерживать, ни бороться с правительством? Все равно. Надо пробовать. Трусов-то и маменькиных сынков всегда достаточно. И при этом бастующие заступаются за арестованных товарищей.
Домой пришел он в некотором возбуждении. «Забастовка-то прошла», – сказал Таисии Николаевне. «Прошла?» – «Огромным большинством. Чертежные, аудитории, все закрыто». Таисия Николаевна взглянула на него с осторожностью. «И что же, долго будете бастовать?» Глеб нервно улыбнулся: «Не знаю, ничего не знаю». В улыбке его была и черта таинственности: как один из главарей, он ничего не мог разглашать – мог знать (но не знал), а молчать должен. Да, не совсем он теперь тот Глеб, что прожил уже восемнадцать лет на белом свете, занимался рисованием и акварелью, и вот в дневники что-то начал записывать.
После обеда дома оставаться не захотелось. Он взял записку с адресами. «Сюда зайду, около Разгуляя… а тут на Новой Басманной какой-то Судаков – и к нему…» Остальные в других направлениях: на Немецкой, на Камер-Коллежском валу, где-то около завода Гужона, на Золоторожской… Нет, туда сегодня не хочется, это такие трущобы. Завтра. А с Новой Басманной можно на конке проехать в центр, там пешком до Арбата – сразу представилась светлая квартирка Лизы в четвертом этаже: свое, родное.
Адрес около Разгуляя нашел Глеб скоро. Солидный дом, хорошая лестница. Отворила нарядная горничная – молодого барина нет дома. Ну, что же поделать. Вечером? – Лучше уж завтра утром: вернее.
На Басманную Глеб прошел пешком, в настроении бодром. Странно, конечно: ходит по незнакомым… – проверяет, научает? Во всяком случае, ни на что прежнее не похоже.
Судаков оказался немолодой одинокий студент угрюмого вида, снимавший комнатку «во дворе во флигеле». Принял Глеба хмуро. На столе лежало «Сопротивление материалов», развернутое на 59-й странице. Стоял стакан недопитого чая. В комнате серо, накурено, кровать под коричневым одеялом, на стене гитара. Судаков сразу же, решительно отказался. Нет, нет и нет. Довольно с него. Из Технологического выгоняли, из Межевого… – теперь пора и учиться. Покорно благодарю. Он даже взволновался, плохо бритое его лицо покраснело: «Можете меня считать за шкурника, за кого угодно…» Глеб растерялся. «Нет, что вы… тут свобода мнений… мы никого не принуждаем».