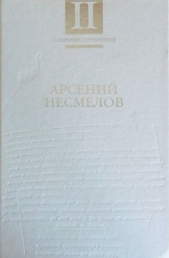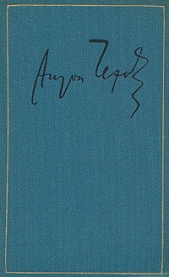Том 1. Повести и рассказы.

Том 1. Повести и рассказы. читать книгу онлайн
Первый том собрания содержит «Записки врача», а также повести и рассказы: «Загадка», «Прорыв», «Товарищи», «Без дороги», «Поветрие», «На мертвой дороге», «Прекрасная Елена», «Лизар», «В сухом тумане», «К спеху», «Ребята», «Ванька», «На эстраде».
К сожалению, в файле отсутствует часть произведений.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет. Вероятнее всего, через день-другой пройдет, хотя, впрочем, может образоваться и нарыв.
Через два дня, действительно, левая миндалина стала нарывать.
— Отчего это? Отчего вдруг нарыв стал образовываться? — любопытствовал муж.
— Отчего!.. Как будто на такой вопрос кто-нибудь может ответить!..
И муж, и жена относились ко мне с тем милым доверием, которое так дорого врачу и так поднимает его дух; каждое мое назначение они исполняли с серьезною, почти благоговейною аккуратностью и тщательностью. Больная пять дней сильно страдала, с трудом могла раскрывать рот и глотать. После сделанных мною насечек опухоль опала, больная стала быстро поправляться, но остались мускульные боли в обеих сторонах шеи. Я приступил к легкому массажу шеи.
— Как все у вас нежно и мягко выходит! — сказала больная, краснея и улыбаясь. — Право, я рада бы все время болеть, только чтобы вы меня лечили.
Каждый раз, по их настойчивым приглашениям, я оставался у них пить кофе и просиживал час-другой; мне это самому было приятно, — с таким дружественным, любовным расположением оба они относились ко мне.
Дня через два у больной появились боли в правой стороне зева, и температура снова поднялась.
— Ну, что? — спросил меня обеспокоенный муж.
— Вероятно, и в другой миндалине образуется нарыв.
— Господи, еще! — проговорила больная, уронив руки на колени.
Муж широко раскрыл глаза.
— Но отчего же это? — с изумлением спросил он. — Кажется, все делалось, что нужно!
Я объяснил ему, что предупредить это было невозможно.
— Ах, ты моя бедная Шурочка! — нервно воскликнул он. — Опять, значит, все это сначала проделывать!
И в голосе его ясно прозвучала враждебная нотка ко мне.
Нарыв созревал медленно-медленно, несмотря на дважды произведенные мною насечки. Опять больной раздуло шею, опять она ничего не могла глотать. Я видел, как с каждым днем все холоднее встречают меня и муж, и жена, как все больше сгущается атмосфера какого-то прямо отвращения ко мне. Теперь мне тяжело было идти к ним, тяжело было осматривать сосредоточенно молчащую больную и делать распоряжения мужу, который выслушивал меня, стараясь не смотреть в глаза. Вместе с этим у них явилась по отношению ко мне какая-то преувеличенная, изысканная вежливость; ясно чувствовалось недоверие и отвращение ко мне, но и то, и другое тщательно прикрывалось этой вежливостью, которая лишала меня возможности поставить вопрос прямо и отказаться от дальнейшего лечения. Да это, в сущности, и не было недоверием: я просто являлся символом и спутником всем надоевшего, всех истомившего страдания, и, как олицетворение этого страдания, я стал ненавистен и противен.
Больная, наконец, выздоровела. Мы простились наружно очень хорошо; но, когда, неделю спустя, я встретился с мужем в фойе театра, он вдруг сделал озабоченное лицо и, отвернувшись, быстро прошел мимо, как будто не заметив меня.
Нужно ко всему этому привыкнуть, не нужно тяготиться таким отношением, потому что это лежит в самой сути дела. Но часто, особенно с неизлечимыми, хроническими больными, вся сила привычки и все усилия воли не могут устоять перед взрывами ярой ненависти отчаявшегося больного к врачу. Высшую радость для врача составляет возможность отказаться от такого больного, но при всей своей ненависти больной часто цепко держится за врача и ни за что не хочет его переменить. Несколько лет назад в Италии, около Милана, произошел такой случай. Д-р Франческо Бертола лечил одного сапожника, находившегося в последней стадии легочной чахотки. Состояние больного все ухудшалось. Потеряв терпение, он стал осыпать врача ругательствами, называя его при каждом посещении шарлатаном, невеждою и т. п. Убедившись, что больной окончательно его возненавидел, д-р Бертола заявил ему, что от дальнейшего лечения он вынужден отказаться. Это решение привело больного в исступление. На следующий день он подкараулил врача на улице.
— Возьметесь вы снова за лечение или нет? — спросил сапожник.
Получив отрицательный ответ, он всадил доктору в живот большой кухонный нож. Врач упал с распоротым животом; одновременно упал и убийца-больной, у которого хлынула кровь горлом. Оба были тотчас подняты и свезены в одну и ту же больницу, там оба они и умерли.
Вся деятельность врача сплошь заполнена моментами страшно нервными, которые почти без перерыва бьют по сердцу. Неожиданное ухудшение в состоянии поправляющегося больного, неизлечимый больной, требующий от тебя помощи, грозящая смерть больного, всегдашняя возможность несчастного случая или ошибки, наконец, сама атмосфера страдания и горя, окружающая тебя, — все это непрерывно держит душу в состоянии какой-то смут ной, не успокаивающейся тревоги. Состояние это не всегда сознается. Но вот выдается редкий день, когда у тебя все благополучно: умерших нет, больные все поправляются, отношение к тебе хорошее, — и тогда, по неожиданно охватившему тебя чувству глубокого облегчения и спокойствия, вдруг поймешь, в каком нервно-приподнятом состоянии живешь все время. Бывает, что совершенно падают силы нести такую жизнь; охватит такая тоска, что хочется бежать, бежать подальше, всех сбыть с рук, хотя на время почувствовать себя свободным и спокойным.
Так жить всегда — невозможно. И вот кое к чему у меня уж начинает вырабатываться спасительная привычка. Я уж не так, как прежде, страдаю от ненависти и несправедливости больных; меня не так уж режут по сердцу их страдания и беспомощность. Тяжелые больные особенно поучительны для врача; раньше я не понимал, как могут товарищи мои по больнице всего охотнее брать себе палаты с «интересными» труднобольными, я, напротив, всячески старался отделываться от таких больных; мне было тяжело смотреть на эти иссохшие тела с отслаивающимся мясом и загнивающею кровью, тяжело было встречаться с обращенными на тебя надеющимися взглядами, когда так ничтожно мало можешь помочь. Постепенно я с этим свыкся.
Стал я свыкаться и вообще с той атмосферой постоянных страданий, в которой приходится жить и действовать Я чувствую, что во мне постепенно начинает вырабатываться совершенно особенное отношение к больным; я держусь с ними мягко и внимательно, добросовестно, стараюсь сделать все, что могу, но — с глаз долой, и с сердца долой. Я сижу дома в кружке добрых знакомых, болтаю, смеюсь; нужно съездить к больному; я еду, делаю, что нужно, утешаю мать, плачущую над умирающим сыном; но, воротившись, я сейчас же вхожу в прежнее настроение, и на душе не остается мрачного следа. «Больной», с которым я имею дело как врач, — это нечто совершенно другое, чем просто больной человек, — даже не близкий, а хоть сколько-нибудь знакомый; за этих я способен болеть душою, чувствовать вместе с ними их страдания; по отношению же к первым способность эта все больше исчезает; и я могу понять одного моего приятеля-хирурга, гуманнейшего человека, который, когда больной вопит под его ножом, с совершенно искренним изумлением спрашивает его:
— Чудак, чего ж ты кричишь?
Мне понятно, как Пирогов, с его чутким, отзывчивым сердцем, мог позволить себе ту возмутительную выходку, о которой он рассказывает в своих воспоминаниях. «Только однажды в моей практике, — пишет он, — я так грубо ошибся при исследовании больного, что, сделав камнесечение, не нашел в мочевом пузыре камня. Это случилось именно у робкого богобоязненного старика; раздосадованный на свою оплошность, я был так неделикатен, что измученного больного несколько раз послал к черту.
„Как это вы бога не боитесь, — произнес он томным умоляющим голосом, — и призываете нечистого злого духа, когда только имя господне могло бы облегчить мои страдания!“»
Это — странное свойство души притупляться под влиянием привычки в совершенно определенном, часто очень узком отношении, оставаясь во всех остальных отношениях неизменною. Раньше я не мог себе представить, а теперь убежден, что даже тюремщик и палач способны искренне и горячо откликаться на все доброе, если только это доброе лежит вне сферы их специальности.