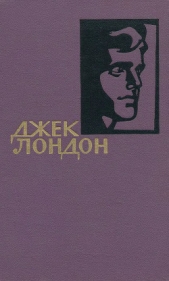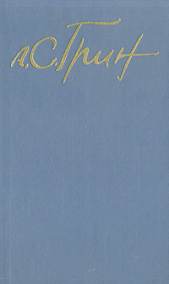Том 7. Мать. Рассказы, очерки 1906-1907

Том 7. Мать. Рассказы, очерки 1906-1907 читать книгу онлайн
В седьмой том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1906–1907 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «В Америке», «Мои интервью», «Солдаты», «Товарищ!», «9-е января», «Мать». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. Некоторые из них в последний раз редактировались писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов. Остальные три произведения седьмого тома — «Чарли Мэн», «Послание в пространство», «[Как я первый раз услышал о Гарибальди]» — включаются в собрание сочинений впервые. Эти произведения М. Горький повторно не редактировал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты его добром, а он тебя — колом! — тихонько усмехнувшись, сказал Ефим и быстро вскочил на ноги. — Уходить им пора, дядя Михайло, покуда не видал никто. Раздадим книжки — начальство будет искать — откуда явились? Кто-нибудь вспомнит — а вот странницы приходили…
— Ну, спасибо, мать, за труды твои! — заговорил Рыбин, прервав Ефима. — Я все про Павла думаю, глядя на тебя, — хорошо ты пошла!
Смягченный, он улыбался широкой и доброй улыбкой. Было свежо, а он стоял в одной рубахе с расстегнутым воротом, глубоко обнажавшим грудь. Мать оглянула его большую фигуру и ласково посоветовала:
— Надел бы что-нибудь — холодно!
— Изнутри греет! — ответил он.
Трое парней, стоя у костра, тихо беседовали, а у ног их лежал больной, закрытый полушубками. Бледнело небо, таяли тени, вздрагивали листья, ожидая солнца.
— Ну, прощайте, значит! — говорил Рыбин, пожимая руку Софье. — А как вас в городе найти?
— Это ты меня ищи! — сказала мать.
Парни медленно, тесной группой подошли к Софье и жали ей руку молча, неуклюже ласковые. В каждом ясно было видно скрытое довольство, благодарное и дружеское, и это чувство, должно быть, смущало их своей новизной. Улыбаясь сухими от бессонной ночи глазами, они молча смотрели в лицо Софьи и переминались с ноги на ногу.
— Молока не выпьете ли на дорогу? — спросил Яков.
— Да есть ли оно? — сказал Ефим.
Игнат, смущенно приглаживая волосы, заявил:
— Нету, — пролил я его…
И все трое усмехнулись.
Говорили о молоке, но мать чувствовала, что они думают о другом, без слов, желая Софье и ей доброго, хорошего. Это заметно трогало Софью и тоже вызывало у нее смущение, целомудренную скромность, которая не позволила ей сказать что-нибудь иное, кроме тихого:
— Спасибо, товарищи!
Они переглянулись, точно это слово мягко покачнуло их.
Раздался глухой кашель больного. Угасли угли в горевшем костре.
— Прощайте! — вполголоса говорили мужики, и грустное слово долго провожало женщин.
Они, не торопясь, шли в предутреннем сумраке по лесной тропе, и мать, шагая сзади Софьи, говорила:
— Хорошо все это, словно во сне, так хорошо! Хотят люди правду знать, милая вы моя, хотят! И похоже это, как в церкви, пред утреней на большой праздник… еще священник не пришел, темно и тихо, жутко во храме, а народ уже собирается… там зажгут свечу пред образом, тут затеплят и — понемножку гонят темноту, освещая божий дом.
— Верно! — весело ответила Софья. — Только здесь божий дом — вся земля.
— Вся земля! — задумчиво качая головой, повторила мать. — Так это хорошо, и поверить трудно даже… И хорошо говорили вы, дорогая моя, очень хорошо! А я боялась — не понравитесь вы им…
Софья, помолчав, ответила тихо и невесело:
— С ними становишься проще…
Они шли и разговаривали о Рыбине, о больном, о парнях, которые так внимательно молчали и так неловко, но красноречиво выражали свое чувство благодарной дружбы мелкими заботами о женщинах. Вышли в поле. Встречу поднималось солнце. Еще не видимое глазом, оно раскинуло по небу прозрачный веер розовых лучей, и капли росы в траве заблестели разноцветными искрами бодрой, вешней радости. Просыпались птицы, оживляя утро веселым звоном. Хлопотливо каркая, тяжело махая крыльями, летели толстые вороны, где-то тревожно свистела иволга. Открывались дали, снимая встречу солнцу ночные тени со своих холмов.
— Иной раз говорит, говорит человек, а ты его не понимаешь, покуда не удастся ему сказать тебе какое-то простое слово, и одно оно вдруг все осветит! — вдумчиво рассказывала мать. — Так и этот больной. Я слышала и сама знаю, как жмут рабочих на фабриках и везде. Но к этому сызмала привыкаешь, и не очень это задевает сердце. А он вдруг сказал такое обидное, такое дрянное. Господи! Неужели для того всю жизнь работе люди отдают, чтобы хозяева насмешки позволяли себе? Это — без оправдания!
Мысль матери остановилась на случае, и он своим тупым, нахальным блеском освещал перед нею ряд однородных выходок, когда-то известных ей и забытых ею.
— Видно — уж всем они сыты и тошно им! Знаю я — земский начальник один заставлял мужиков лошади его кланяться, когда по деревне вели, и кто не кланялся, того он под арест сажал. Ну, зачем это нужно было ему? Нельзя понять, нельзя!
Софья негромко запела песню, бодрую, как утро…
Жизнь Ниловны потекла странно спокойно. Спокойствие это порой удивляло ее. Сын сидел в тюрьме, она знала, что его ждет тяжелое наказание, но каждый раз, когда она думала об этом, память ее помимо воли вызывала перед нею Андрея, Федю и длинный ряд других лиц. Фигура сына, поглощая всех людей одной судьбы с ним, разрасталась в ее глазах, вызывала созерцательное чувство, невольно и незаметно расширяя думы о Павле, отклоняя их во все стороны. Они раскидывались всюду тонкими, неровными лучами, всего касаясь, пытались все осветить, собрать в одну картину и мешали ей остановиться на чем-нибудь одном, мешали плотно сложиться тоске о сыне и страху за него.
Софья скоро уехала куда-то, дней через пять явилась веселая, живая, а через несколько часов снова исчезла и вновь явилась недели через две. Казалось, что она носится в жизни широкими кругами, порою заглядывая к брату, чтобы наполнить его квартиру своей бодростью и музыкой.
Музыка стала приятна матери. Слушая, она чувствовала, что теплые волны бьются ей в грудь, вливаются в сердце, оно бьется ровнее и, как зерна в земле, обильно увлажненной, глубоко вспаханной, в нем быстро, бодро растут волны дум, легко и красиво цветут слова, разбуженные силою звуков.
Матери трудно было мириться с неряшливостью Софьи, которая повсюду разбрасывала свои вещи, окурки, пепел, и еще труднее с ее размашистыми речами, — все это слишком кололо глаза рядом со спокойной уверенностью Николая, с неизменной, мягкой серьезностью его слов. Софья казалась ей подростком, который торопится выдать себя за взрослого, а на людей смотрит как на любопытные игрушки. Она много говорила о святости труда и бестолково увеличивала труд матери своим неряшеством, говорила о свободе и заметно для матери стесняла всех резкой нетерпимостью, постоянными спорами, В ней было много противоречивого, и мать, видя это, относилась к ней с напряженной осторожностью, с подстерегающим вниманием, без того постоянного тепла в сердце, которое вызывал у нее Николай.
Он, всегда озабоченный, жил изо дня в день однообразной, размеренной жизнью: в восемь часов утра пил чай и, читая газету, сообщал матери новости. Слушая его, мать с поражающей ясностью видела, как тяжелая машина жизни безжалостно перемалывает людей в деньги. Она чувствовала в нем нечто общее с Андреем. Как хохол, он говорил о людях беззлобно, считая всех виноватыми в дурном устройстве жизни, но вера в новую жизнь была у него не так горяча, как у Андрея, и не так ярка. Он говорил всегда спокойно, голосом честного и строгого судьи, и хотя — даже говоря о страшном — улыбался тихой улыбкой сожаления, — но его глаза блестели холодно и твердо. Видя их блеск, мать понимала, что этот человек никому и ничего не прощает, — не может простить, — и, чувствуя, что для него тяжела эта твердость, жалела Николая. И все более он нравился ей.
В девять часов он уходил на службу, она убирала комнаты, готовила обед, умывалась, надевала чистое платье и, сидя в своей комнате, рассматривала картинки в книгах. Она уже научилась читать, но это всегда требовало от нее напряжения, и, читая, она быстро утомлялась, переставала понимать связь слов. А рассматривание картинок увлекало ее, как ребенка, — о, ни открывали перед нею понятный, почти осязаемый мир, новый и чудесный. Вставали огромные города, прекрасные здания, машины, корабли, монументы, неисчислимые богатства, созданные людьми, и поражающее ум разнообразие творчества природы. Жизнь расширялась бесконечно, каждый день открывая глазам огромное, неведомое, чудесное, и все сильнее возбуждала проснувшуюся голодную душу женщины обилием своих богатств, неисчислимостью красот. Она особенно любила рассматривать фолианты зоологического атласа, и хотя он был напечатан на иностранном языке, но давал ей наиболее яркое представление о красоте, богатстве и обширности земли.