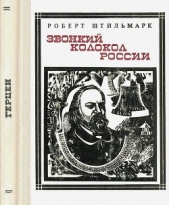Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева)

Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева) читать книгу онлайн
Писатель, мыслитель, революционер, ученый, публицист, основатель русского бесцензурного книгопечатания, родоначальник политической эмиграции в России Александр Иванович Герцен (Искандер) почти шестнадцать лет работал над своим главным произведением — автобиографическим романом «Былое и думы». Сам автор называл эту книгу исповедью, «по поводу которой собрались… там-сям остановленные мысли из дум». Но в действительности, Герцен, проявив художественное дарование, глубину мысли, тонкий психологический анализ, создал настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы, общественную, литературную и политическую жизнь России середины ХIХ века.
Роман «Былое и думы» — зеркало жизни человека и общества, — признан шедевром мировой мемуарной литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я был откровенен, писал, щадя старика, просил так мало, — он мне отвечал иронией и уловкой. «Он ничего не хочет сделать для меня, — говорил я сам себе, — он, как Гизо, проповедует la non-intervention; [213]хорошо, так я сделаю сам, и теперь — аминь уступкам». Я ни разу прежде не думал об устройстве будущего; я верил, знал, что оно мое, что оно наше, и предоставлял подробности случаю; нам было довольно сознания любви, желания не шли дальше минутного свидания. Письмо моего отца заставило меня схватить будущее в мои руки. Ждать (353) было нечего — cosa fatta capo ha! [214]Отец мой не очень сентиментален, а княгиня —
В это время гостили во Владимире мой брат и К<етчер>. Мы с К<етчером> проводили целые ночи напролет, говоря, вспоминая, смеясь сквозь слез и до слез. Он был первый из наших, которого я увидел после отъезда из Москвы. От него я узнал хронику нашего круга, в чем перемены и какие вопросы занимают, какие лица прибыли, где те, которые оставили Москву, и проч. Переговоривши все, я рассказал о моих намерениях. Рассуждая, что и как следует сделать, К<етчер> заключил предложением, нелепость которого я оценил потом. Желая исчерпать все мирные пути, он хотел съездить к моему отцу, которого едва знал, и серьезно сним поговорить. Я согласился.
К<етчер>, конечно, был способнее на все хорошее и на все худое, чем на дипломатические переговоры, особенно с моим отцом. Он имел в высшей степени все то, что должно было окончательно испортить дело. Он одним появлением своим наводил уныние и тревогу на всякого консерватора. Высокий ростом, с волосами странно разбросанными, без всякого единства прически, с резким лицом, напоминающим ряд членов Конвента 93 года, а всего более Мара, с тем же большим ртом, с тою же резкой чертой пренебрежения на губах и с тем же грустно и озлобленно печальным выражением; к этому следует прибавить очки, шляпу с широкими полями, чрезвычайную раздражительность, громкий голос, непривычку себя сдерживать и способность, по мере негодования, поднимать брови все выше и выше. К<етчер> был похож на Ларавинье в превосходном романе Ж. Санд «Орас», с примесью чего-то патфайндерского, робинзоновского. и еще чего-то чисто московского. Открытая, благородная натура с детства поставила его в прямую ссору с окружающим миром; он не скрывал это враждебное отношение и привык к нему. Несколькими годами старше нас, он беспрерывно бранился с нами и был всем недоволен, делал выговоры, (354) ссорился и покрывал все это добродушием ребенка. Слова его были грубы, но чувства нежны, и мы бездну прощали ему.
Представьте же именно его, этого последнего могикана, с лицом Мара, «друга народа», отправляющегося увещевать моего отца. Много раз потом я заставлял К<етчера> пересказывать их свидание, моего воображения недоставало, чтоб представить все оригинальное этого дипломатического вмешательства. Оно пришлось так невзначай, что старик не нашелся сначала, стал объяснять все глубокие соображения, почему он против моего брака, и потом уже, спохватившись, переменил тон и спросил К<етчера>, с какой он стати пришел к нему говорить о деле, до него вовсе не касающемся. Разговор принял характер желчевой. Дипломат, видя, что дело становится хуже, попробовал пугнуть старика моим здоровьем; но это уже было поздно, и свидание окончилось, как следовало ожидать, рядом язвительных колкостей со стороны моего отца и грубых выражений со стороны К<етчера>.
К<етчер> писал мне: «От старика ничего не жди». Этого-то и надо было. Но что было делать, как начать? Пока я обдумывал по десяти разных проектов в день и не решался, который предпочесть, брат мой собрался ехать в Москву.
Это было 1 марта 1838 года.
ГЛАВА XXIII
Утром я писал письма, когда я кончил, мы сели обедать. Я не ел, мы молчали, мне было невыносимо тяжело, — это было часу в пятом, в семь должны были прийти лошади. — Завтра после обеда он будет в Москве, а я… — и с каждой минутой пульс у меня бился сильнее.
— Послушайте, — сказал я наконец брату, глядя в тарелку, — довезите меня до Москвы?
Брат мой опустил вилку и смотрел на меня неуверенный, послышалось ему или нет. (355)
— Провезите меня через заставу как вашего слугу, больше мне ничего не нужно, согласны?
— Да я, — пожалуй, только знаешь, чтоб тебе потом…
Это уж было поздно, его «пожалуй» было у меня в крови, в мозгу. Мысль, едва мелькнувшая за минуту, была теперь неисторгаема.
— Что тут толковать, мало ли что может случиться — итак, вы берете меня?
— Отчего же — я, право, готов — только… Я вскочил из-за стола.
— Вы едете? — спросил Матвей, желая что-то сказать.
— Еду, — отвечал я так, что он ничего не прибавил. — Я послезавтра возвращусь, коли кто придет, скажи, что у меня болит голова и что я сплю, вечером зажги свечи и засим дай мне белья и сак.
Бубенчики позванивали на дворе.
— Вы готовы?
— Готов. Итак, в добрый час.
На другой день, в обеденную пору бубенчики перестали позванивать, мы были у подъезда К<Сетчера>. Я велел его вызвать. Неделю тому назад, когда он меня оставил во Владимире, о моем приезде не было даже предположения, а потому он так удивился, увидя меня, что сначала не сказал ни слова, а потом покатился со смеху, но вскоре принял озабоченный вид и повел меня к себе. Когда мы были в его комнате, он, тщательно запирая дверь на ключ, спросил меня:
— Что случилось?
— Ничего.
— Да ты зачем?
— Я не мог остаться во Владимире, я хочу видеть Natalie — вот и все, а ты должен это устроить, и сию же минуту, потому что завтра я должен быть дома.
К<етчер> смотрел мне в глаза и сильно поднял брови.
— Какая глупость, это черт знает что такое, без нужды, ничего не приготовивши, ехать. Что ты, писал, назначил время?
— Ничего не писал.
— Помилуй, братец, да что же мы с тобой сделаем? Это из рук вон, это белая горячка!
— В том-то все дело, что, не теряя ни минуты, надобно придумать, как и что. (356)
— Ты глуп, — сказал положительно К<етчер>, забирая еще выше бровями, — я был бы очень рад, чрезвычайно рад, если б ничего не удалось, был бы урок тебе.
— И довольно продолжительный, если попадусь. Слушай, когда будет темно, мы поедем к дому княгини, ты вызовешь кого-нибудь на улицу, из людей, я тебе скажу кого, — ну, потом увидим, что делать. Ладно, что ли?
— Ну, делать нечего, пойдем, а уж как бы мне хотелось, чтоб не удалось! Что же вчера не написал? — и К<етчер>, важно нахлобучив на себя свою шляпу с длинными полями, набросил черный плащ на красной подкладке.
— Ах ты, проклятый ворчун! — сказал я ему, выходя, и К<етчер>, от души смеясь, повторял: «Да разве это не курам на смех, не написал и приехал, — это из рук вон».
У К<етчера> нельзя было оставаться, он жил ужасно далеко и в этот день у его матери были гости. Он отправился со мной к одному гусарскому офицеру. К<етчер> его знал за благородного человека, он не был замешан в политические дела и, следственно, вне полицейского надзора. Офицер с длинными усами сидел за обедом, когда мы пришли; К<етчер> рассказал ему, в чем дело, офицер в ответ налил мне стакан красного вина и поблагодарил за доверие, потом отправился со мной в свою спальню, украшенную седлами и чепраками, так что можно было думать, что он спит верхом.
— Вот вам комната, — сказал он, — вас никто здесь не обеспокоит.
Потом он позвал денщика, гусара же, и велел ему ни под каким предлогом никого не пускать в эту комнату. Я снова очутился под охраной солдата, с той разницей, что в Крутицах жандарм меня караулил от всего мира, а тут гусар караулил весь мир от меня.