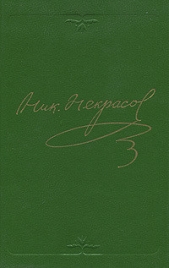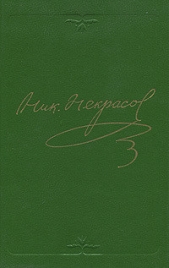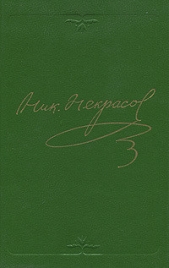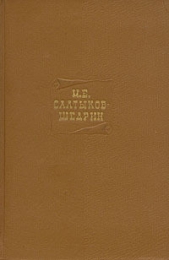Том 7. Художественная проза 1840-1855
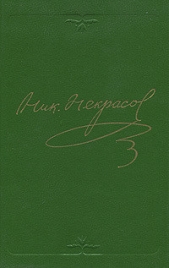
Том 7. Художественная проза 1840-1855 читать книгу онлайн
В седьмой том вошли прозаические повести и рассказы Некрасова, опубликованные при жизни автора. Хронологические границы тома — 1840–1855 гг. — охватывают период жизни писателя от первого неудачного выступления в литературе (поэтический сборник «Мечты и звуки») до несомненного признания, когда имя его утвердилось в истории русской поэзии (выход в свет «Стихотворений» 1856 г.). Таким образом, время большой и упорной работы Некрасова-прозаика стало и временем роста и совершенствования его поэтического таланта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Была не была! Уж неужто так и не выпить?.. Авось.
— И то сказать, — заметил Кирьяныч, внутренно обрадованный, — голенький ох, а за голеньким бог.
За первым стаканом взаимно признались в расположении, которое почувствовали друг к другу при первой встрече; за вторым — заплакали, обнялись и неоднократно поцеловались; за третьим — побранились; за четвертым — последовала естественная и неизбежная развязка незатейливой драмы, которую я здесь безыскусственно рассказал: герои ее подрались…
Поутру, впросонках, я слышал какой-то отрывистый разговор, который меня очень заинтересовал.
— Собаки есть?
— Есть, пара. Кирпичная, белая с крапинами…
— Крапины серые?.. левое ухо прорезано? на хвосте черное пятнышко?
— Кажись, так. Полюбопытствуйте.
Впросонках человек бывает ленив: мне страх хотелось посмотреть на раннего посетителя, но страх не хотелось повернуться и открыть глаза. Я так и не посмотрел. Впрочем, впоследствии я встретился с ним лицом к лицу: очень интересный господин! Очередь придет — познакомлю.
Здесь на сей раз простимся мы с записками Тростникова (объяснение — кто такой Тростников, завело бы слишком далеко, и потому оно здесь выпускается), из которых извлекли отрывок, предлагаемый благосклонному вниманию читателя.
Очерки литературной жизни *
Владимир Иванович Хлыстов был молодой человек с независимым состоянием и писал стихи. Другого никакого занятия у него не было, но он почитал для себя и это достаточным, потому что надеялся своими стихами произвести переворот во вселенной и перевоспитать всё человечество. В ожидании этого благодетельного переворота он, когда не творил стихов, ездил в театр, да в танцкласс к мадам Б., да еще кое-куда, бил баклуши с половины третьего до четырех на Невском проспекте и кутил с своими приятелями, в твердой уверенности, что поэт непременно должен кутить.
Кто-то из писателей очень метко охарактеризовал известный разряд петербургской пишущей братии названием «тли».
Господин Хлыстов, не во гнев ему будь сказано, именно принадлежал к этой «тле». Что касается до его приятелей, то они также были, по значению, не более как подобная Владимиру Иванычу тля…
«Тля, тля и тля!» Вы морщитесь… Вам кажется странным, неуместным, что я, желая сделать «очерки литературной жизни», заговорил с вами о тле… Вы скажете: да неужели у нас в литературе нет ничего, кроме тли? Сохрани меня бог утверждать такую нелепость!.. Нет, милостивые государи, я очень хорошо знаю, что в Петербурге есть литераторы, которых одно имя внушает уважение, есть журналисты, которых физиономии заключают в себе нечто «внушающее» и свидетельствующее об их неутомимом трудолюбии, есть заслуженные двадцатилетние любимцы публики, есть… но не перечтешь всех, какие в петербургской литературе попадаются тузы… Но тузы у всякого на глазах; их действиями литературными и нелитературными, их жизнью, даже частного жизнью во всех ее мелочах, интересуются, и укажите мне хоть одну петербургскую знаменитость, которой история не была бы известна публике как пять пальцев?.. Если и удавалось кому в течение нескольких лет с успехом окружить себя интересующим мраком таинственности, зато, когда наконец случай хоть немножко приподнимал завесу, — всё тотчас выводилось наружу с удивительною поспешностью, и о добродетелях такого «субъекта», долго таившихся под спудом, начинал трубить весь город. А тля? Кто ею интересуется? Кто, бесстрашный, решится спуститься туда, где настоящее ее местопребывание, чтоб выследить ее жизнь, нравы, обычаи? А это нелегко. Я даже думаю, что окажу вам услугу, раскрыв перед вами некоторые явления в мире этой «тли», те явления, которые не были еще раскрыты.
Люди, с которыми я хочу теперь знакомить вас, — всё люди великие. Каждый из них имеет своих поклонников и в большем или меньшем количестве обер-офицерских семейств, куда по воскресеньям ходит обедать, слывет гением. Люди эти, следовательно, не так ничтожны, как думают. Петербургский чиновник не любит и ни о чем не имеет времени думать, что выходит из круга его занятий. Однако ж он иногда чувствует потребность иметь о том или другом предмете какое-нибудь мнение. Что бы стал делать он при таком положении дел, если б раз в неделю не посещал его «сочинитель», который всё знает, у которого всё можно спросить?.. Поймите же великое значение для Петербурга презираемой вами тли. Их мнения принимаются на слово и повторяются сотнями почтенных и благонамеренных людей; они, следовательно, дают направление массе, они устанавливают тот голос, который называют гласом публики. Каков этот голос, это другой вопрос… Довольно сказать вам, что без тли Петербургу было бы плохо. Пришлось бы иногда самому думать о таких вещах, о которых думать совсем нет ни охоты, ни времени.
Хлыстов занимал квартиру, каких много в Петербурге и какие для холостяков очень удобны: две комнаты с кухней и прихожей. Квартирка его убрана была, как убирают в Петербурге люди средней руки и среднего состояния: красные диваны, вместо шерсти набитые мочалой, а дерево кресел хотя и красно, однако ж совсем не красное.
Хлыстов ждал гостей: вышла новая его поэма, и он решился задать пирушку, чтобы задобрить издателя некоей газеты… В утреннем голубом сюртуке с плюшевым воротником и шелковыми кистями, в бархатной феске с золотым ободочком и красной кисточкой, в желтых туфлях, с умыслом прорванных на большом пальце правой ноги, Владимир Иваныч медленно прохаживался по своему кабинету, и душа его тонула в блаженном созерцании самого себя и своей квартиры. «Если б, — думал он, — кто-нибудь вздумал написать из меня повесть, он, верно бы, описал прежде всего мой кабинет, и, надеюсь, тут ему довольно было бы работы…» При этом Хлыстов самодовольно взглянул на кучу разных безделушек, развешанных по стене, расставленных по сторонам, размещенных по этажеркам и подоконьям, сделал гримасу портретам, сказав: «Эх, вы!», и потом заглянул мимоходом в зеркало. «Описавши кабинет, он, верно, начал бы так: „Молодой хозяин кабинета…“» И тут Хлыстов не мог удержаться от улыбки, подумав, что повествователь уж никак бы не мог пропустить, что хозяин очень недурен собою. Эта мысль заставила его быстро подойти к зеркалу, и уже на этот раз он стоял перед ним довольно долго, потом начал шибко ходить, страшно отбрасывая ноги по сторонам и декламируя какие-то стихи своего сочинения. Потом он произнес: «Вот черт возьми!» — и задумался. Подумав с минуту, он вскочил и с необыкновенною живостью закричал: «Ванька, трубку!» — и опять сел… Прошла минута, ни Ваньки, ни трубки не было. Он побежал в кухню с сердитым лицом, разбудил Ваньку, крикнул, что он только спит и даром ест у него хлеб, погрозил высечь и, с гневом возвратившись в кабинет, сел и начал что-то насвистывать. Ванька подал ему трубку, которую набил из стоявшего тут же курительного снаряда.
В то время раздался звонок. Входит молодой человек невысокого роста, черноватый, в оливковой венгерке и в красном шарфе, — один из тех праздношатающихся молодых людей, которые попадаются во всех гостиницах Невского проспекта и всюду, где есть на что поглазеть. Сам он ничего не сочинял, но был друг со многими второстепенными сочинителями и актерами и с гордостью говорил, что решительно не пропускает ни одного спектакля в Александрийском театре. И он не лгал.
Он имел искусство, при довольно хорошем состоянии, быть всегда без денег. Получив их, он тотчас делал пирушку, сзывая всех актеров, сочинителей и другого рода «артистов», кутил с ними до той поры, пока в кошельке душа была. Зато все артисты говорили ему «монгдер» и на шумных пирушках экспромтом произносили в честь его стихи, которые он заучивал наизусть и хранил в памяти, как драгоценность. Он готов был пробыть два дни без еды (что не раз и случалось), только бы пройтись по Невскому в новом шарфе, заплатить бенефицианту тройную цену за кресло в первом ряду и проехаться в коляске мимо окон той, которой посвящались аплодисменты его терпких рук и вздохи страстного сердца. Замечательно, что страсть кататься именно в коляске, — потому что в карете не всякий его увидит, — осталась в нем господствующею и тогда, как все другие исчезли, подавленные, как ртуть в термометре во время мороза, постоянным безденежьем. Он навещал своих приятелей пешком, когда ему решительно нечего было ни заложить, ни продать, ни занять. Когда же появлялись деньги, он по два, по три, по четыре дни сряду разъезжал с утра до вечера по улицам, гордо посматривая вокруг себя, кланяясь знакомым и незнакомым, по нескольку раз объезжал всех своих приятелей, завозил их по домам, по кондитерским, по театрам, и в эти торжественные дни самодовольная улыбка ни на минуту не спалзывала с лица его; он был счастлив, хотя нередко можно было поручиться, что сам он не знает, где и будет ли завтра обедать. Еще любил он похвастать всем, что приходило ему на ум: значительностью своих родственников, красотою своей покойной матери, пирушками, которые задавал в старину, рысаком своего брата, балом, который задаст на своей свадьбе, интригой, которую непременно довел бы до благополучного конца, с какой-то губернаторшей, если б не помешал сам губернатор, и так далее. Приятели считали его добрым малым, но сам он был о себе мнения высокого и особенно находил в себе много остроумия. Поэтому острил, отпускал плоскости на каждом шагу и любил экспромтом рассказывать анекдоты, говоря всегда с примесью водевильных куплетцев, которых знал множество. В ту минуту, как он входил в кабинет Хлыстова, лицо его сияло необыкновенным весельем, глаза самодовольно блистали: по всему видно было, что он приехал в коляске.