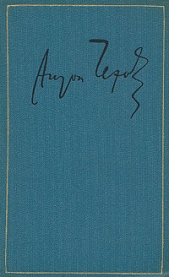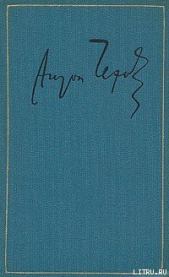Том 3. Очерки и рассказы 1888-1895

Том 3. Очерки и рассказы 1888-1895 читать книгу онлайн
В третий том Собрания сочинений Н.Г. Гарина-Михайловского вошли очерки и рассказы 1888–1895 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет, уж пора, — решительно проговорила Марья Васильевна. — А как же царь решил?
— Дырку велел заделать… На дорожку: посошок… пожалуйте!
Выпили на дорожку, потрепал по плечу Ивана Васильевича Иван Михайлович.
— Молодец!
Иван Васильевич только волосами тряхнул. Оделись, закутались. Идет, качается Иван Михайлович. Довел его до саней Иван Васильевич, усадил. Пыхтит Иван Михайлович:
— Молодец… молодец… насквозь тебя вижу… молодец… всех остригешь… э… если бы все мужики были, как ты…
— Стричь некого было бы…
— Хо-хо-хо! Молодец… Ей-богу, молодец… э… прямо тебе говорю: молодец! Пошел!
Хозяйские лошади дружно подхватили. Качается возок, качается Иван Михайлович, водка разливается по жилам: тепло. Думает управитель. об Иване. Васильевиче, глядит в далекую луну и думает о том, какой он, Иван Михайлович, хитрый и умный, как он понимает все и насквозь видит всех. Эх! если б тогда пошел бы в военную службу, теперь бы генералом уже был!
Охотник Эммануил Дормидонтович до чужих дел: уехал Иван Михайлович, разобрал всласть по косточкам его. Охота бы послушать, зачем приехал и Петр Захарыч, да речь оборвалась, сидят и гость и хозяин, никто ни слова.
— Ну, идти надо…
Видит Иван Васильевич, что как будто обиделся Эммануил Дормидонтович:
— Посидели бы еще…
— Нет, уж пойду.
— На дорожку: посошок. Пожалуйста… В кои годы раз зайдете — пожалуйста.
— Будет…
Не такой человек Иван Васильевич, чтоб так отпустить: выпил-таки Эммануил Дормидонтович, и сердце отлегло.
Уходя, шепчет Ивану Васильевичу:
— Ты смотри… ухо востро держи с ним. Иван Васильевич только молча кивает головой.
— Он мужик хитрый… знаешь…
Еще таинственнее кивает головой Иван Васильевич, запирает дверь и идет назад в избу.
Петр Захарыч уж ходит, ждет его: слава богу, убрались лишние люди.
— Ну, продавай мне хлеб свой.
— Сколько-с?
— Сколько у тебя?
— Тысячи три будет продажного.
— Чать, больше?
— Больше покаместь не могу.
— Ну, три.
— Так.
— Говори цену… не рано…
Однако, добрый час прошел, пока кончили. Выкрутил-таки пятачок на пуд против базарной цены Иван Васильевич: на базар не везти, да пятак…
Кончили, условие написали, отсчитал Петр Захарыч деньги. Оба довольны. Хлеб чтоб до весны в амбаре у Ивана Васильевича и лежал. Смотрит Петр Захарович весело в глаза Ивану Васильевичу.
— Ну, чать, думаешь, — вот дурака нашел… цену какую дал Петр Захарович… с ума сошел? А? ну, теперь, так и быть открою… Открыть, что ль?
— Милость будет…
— Для науки разве… Умен-то ты умен, ну, а науку все-таки не всю прошел…
Объясняет Петр Захарыч Ивану Васильевичу свою хитрую политику с земством. Слушает Иван Васильевич да кивает головой.
— Понял? Попытай-ка везти теперь из города?! А тут хлеб уж готовый, во что встанет извоз, то и мое… Деться некуда… Опять не кормить их-перемрут все… Помаются, а пойдут на запашку… Так-то, голова.
— Совершенно верно.
Проводил Иван Васильевич гостя, запирает дверь, усмехается: «На запашку не допустим, — на твои же деньги три оборота сделаем, а там опять мне же поклонишься, чтоб только развязку тебе сделать».
Потянулась беднота из деревни. Жить не у чего стало, побросали избы: так и стоят заколоченные окна да двери.
Много ушло, много осталось.
Пусто да сумно на селе. Ушел и Лизарка в город: пойду да пойду.
Проводила и стоит Фаидаа краю села, сморщенная, старенькая, согнулась… лицо остренькое все, как припеченная ржаная корка, глаза маленькие, тихие, пустые. Стоит да смотрит, да безучастно, словно лениво, тихо, тихо оглядывается.
Ушел… а думка в голове, как лошадь в топчаке, все давит да давит в одно место. Кружится топчак, кружится голова, качает всю и, кажись, так бы и свалилась. Но валиться нельзя, и стоит до времени. Вихрем каким-то вытянуло из нее все силы, сына теперь вытянуло и самое тянет в эту пустыню, чтоб потеряться в ней и исчезнуть бесследно… И с богом! тоскливо щурится Фаида. Лизарку вот только жаль. Ушел… Тут у пустого места какое теперь житье?! Сама знает, какое житье! Сирота, да с мальчишкой — всякий норовит задарма выкрутить работу. Зимой придешь Христовым именем попросишь, а на лето он уж прямо, как к себе, валит в избу.
— Тетка Фаида, пришли, слышь, парнишку подсобить, а то и сама приходи.
Так, на затычку у людей: и не идти нельзя и с работы такой опять же Христовым именем только кормиться. А тут уж и всем есть нечего. Сама-то так… Может, и пожалеют.
Обещал дядя Андрей, как брал с весны сына, и одежду справить, и хлеба на зиму дать, и денег. Дал пять пудов хлеба, ни одежи, ни денег. На урожай ссылается.
— Сама видишь, чего бог дал: с чем останусь? Был бы прибыток, неужели пожалел бы? Не даст ли в будущем году господь — отдам… Неужели так уж и не будет?!. Чего ж станешь делать?
— Слышь, Лизарка, нет, байт, денег!
— Что ж он сирот-то грабит?
Уж, конечно, грабит. Обидно и Фаиде, а терпеть надо.
— Эх, сынок, не говори так. Наше дело сиротское — скажи: бог с ним и с его деньгами… Божья воля: люди видят твою правоту. Ввяжешься, тебе же хуже: ты же и виноват будешь, а другой только опасаться станет.
Насупился Лизарка, собрался весь, крепко-крепко собрал колечком губы и уставился, как бычок, куда-то.
— Этак что ж? И жить нельзя после этого…
— Эх, сыночек, с мое поживи.
— Я в город уйду.
Уйду да уйду. Надеялись на дарственный: ну так ведь, слышь, не идут на запашку.
По-о-шел… а буран… Проводила до пригорка… Повалился в ноги: «Прости ты меня, мамонька, коли в чем обидел». О господи! Прости и ты, сынок, что голодом да холодом выпоила да выкормила, что вывела тебя на большую дорогу… По-о-шел. Уж и не видно его… а метель так и рвет, одежонка худая: так и грохнулась на землю. Ох, и не вставала бы. Надо вставать. Оглянулась — нет никого: пошла домой. Идет, воет ветер, свистит жалобно-жалобно, а он точно вот тут где-то: «мамонька!» Оглянется: нет никого… одна как перст божий!
Дошла до села и стоит: то ли забыла, то ли ждет чего.
— Идет староста Родивон и кричит ей.
— Эй, бабушка Фаида, аль сына ждешь? Только ведь проводила… Домой иди лучше — застынешь.
Поплелась в избу. Пришла, тихо-тихо оглядывается, словно ищет в избенке сынка. Но пусто в избенке: крепко притиснута дверь, и скоба, что нажимал, бывало, входя, Лизарка сынок, торчит без движенья у темных дверей.
Пуще злится метель на дворе, воет ветер свою песню в трубе. Смотрит тоскливо Фаида в окно. Темнеет и стынет короткий зимний день. Вьюга злей. Ветер воет, и рвет, и гонит целую кучу снега по улице, так и заметает…
О-хо-хо! Нет хлеба, измаялся народ. Хворь пошла по селу. Смерть валит острой косой своей, валит и старого и малого: в редкую избу не заглянет. Помается, помается, поохает в жару да в головной боли, иной и оправляться начнет, а тут опять захватит и уж вкруте покричит сутки, двое, да и богу душу отдаст.
Забрела на село женщина с девочкой, к Фаиде поставили на ночлег, в ту же ночь разнемоглась, а через неделю и оставила сиротку лет двенадцати на руки Фаиде… Так и не знают люди, чья она, из какой деревни.
Куприян с женой кончились, девочка Надя лет девяти осталась. Принял ее Михайло Филиппыч. Идет по селу, встретил Фаиду:
— С дочкой тебя, и меня.
— И не глядит Фаида, только рукой машет.
Сидит маленькая Надя у окна, смотрит на белый снег: худенькая, маленькая, с приподнятыми плечиками, и все думает: как и куда бог взял мамку и тятьку.
И страшно ей, охота мамку повидать, охота заплакать, и боится. Сожмется и крепче смотрит и крепится, чтоб не завыть голосом.
— А ты помолись, — скажет Михайло Филиппыч, — за мамку да тятьку, чтоб господь их в царствие свое сподобил…
Молится Надя: вдумчиво, крепко. Съежилась, смотрит на образ и страстно, горячо шепчет чего-то.