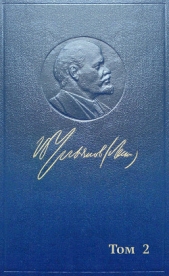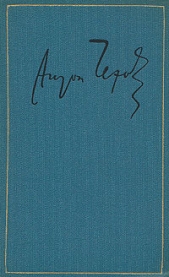Том 22. Избранные дневники 1895-1910

Том 22. Избранные дневники 1895-1910 читать книгу онлайн
В том включены избранные Дневники Толстого за 1895-1910 гг.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1 апреля 1909. Вчера уехал Чертков. Я хотел ехать проводить, но был очень слаб и ничего не писал, начал и бросил. Был в очень дурном духе, и теперь не похвалюсь. Мучительна мне эта безумная (больше, чем безумная, рядом с бедной на деревне) [жизнь], среди которой уже сам не знаю как обречен доживать. Если ни в чем другом, так в этом сознании неправды я явно пошел вперед. И роскошь мучительна, стыдна, отравляет все, и тяжелы сыновья своей чуждостью и общей всей семье самоуверенностью исключительной, — то же у дочерей. […]
Еще думал, как губительна, развращает детей гимназия (Володенька Милютин — бога нет ), как нельзя преподавать рядом историю, математику и Закон божий. Школа неверия. Надо бы преподавание нравственного учения.
Читал вчера «Корнея Васильева» и умилялся.
3 апреля 1909. Вчера хорошие письма: Краснова. Отвечал ему и другим. Немного писал. Все нехорошо. Заглавие — «Новая жизнь». Вечер как-то совестно с картами. Роскошь жизни, объедание все мучает. Нынче опять хорошие письма. Отвечал. И писал «Новую жизнь» немного. Слаб. Соня уехала в Москву. Хочется написать в «Детскую мудрость» о наследстве. И Ивану Ивановичу две книжечки и «Павла».
8 апреля 1909. Ночью выпал снег. Никак не думал, что так долго не писал. За это время был нездоров, кажется 5-го, ничего не ел полтора суток. И было очень хорошо. Письма опять хорошие. Ils m’en diront tant [69], что я точно поверю, что я очень важный человек. Нет, не надуют. Они надувают, да я пока еще выпускаю дух. Вчера да и третьего дня порядочно писал «Новую жизнь». Но все это старое, старое, только забытое и другими людьми, и мною. Вчера занимался тоже Конфуцием. Кажется, можно написать. […] Много, кажется, нужно записать и одно главное, что подчеркну.
[…] 3) Выбора нет людям нашего времени: или наверное гибнуть, продолжая настоящую жизнь, или de fond en comble [70] изменить ее.
4) Все растет и, вырастая, изменяется. Неужели неизменно одно то, на основании чего живет человечество?
5) Приучать себя думать о себе, как о постороннем; а жалеть о других, как о себе.
[…] 8) И теперь самое для меня дорогое, важное, радостное; а именно:
Как хорошо, нужно, пользительно, при сознании всех появляющихся желаний, спрашивать себя: чье это желание: Толстого или мое. Толстой хочет осудить, думать недоброе об NN, а я не хочу. И если только я вспомнил это, вспомнил, что Толстой не я, то вопрос решается бесповоротно. Толстой боится болезни, осуждения и сотни и тысячи мелочей, которые так или иначе действуют на него. Только стоит спросить себя: а я что? И все кончено, и Толстой молчит. Тебе, Толстому, хочется или не хочется того или этого — это твое дело. Исполнить же то, чего ты хочешь, признать справедливость, законность твоих желаний, это — мое дело. И ты ведь знаешь, что ты и должен и не можешь не слушаться меня, и что в послушании мне твое благо.
Не знаю, как это покажется другим, но на меня это ясное разделение себя на Толстого и на Я удивительно радостно и плодотворно для добра действует.
Нынче ничего не писал. Только перечитывал Конфуция.
11 апреля. Два дня не писал. Здоровье нехорошо. На душе уже не так хорошо, как было. Толстой забирает силу надо мной. Да врет он. Я, Я, только и есть Я, а он, Толстой, мечта, и гадкая и глупая. Холод, снег. Письма хорошие вчера. Так радостно! Отвечал кое-какие. Все не могу, как хочется, ответить Булгакову. Постараюсь написать нынче . С дочерьми — хорошо. С Николаевым поправлял Кришну . Сегодня хотел и хочу заняться китайцами, Конфуцием. […]
12,13 апреля. Вчера писал несколько писем, нездоровится. Разделение менее ясно и радостно, но есть. Как всегда, движение оставляет след, и след чувствительный. Писал статью и вчера, и сегодня. И не дурно. Подвигается. Хочется «Детскую мудрость». Хороший вчера был разговор о воспитании. Нынче я очень не в духе. Все раздражает. Держусь, и слава богу, деление помогает.
14 апреля 1909. Все нехорошо себя чувствую телесно. Душевно не могу жаловаться. Вчера, несмотря на дурное расположение духа, был лучше, чем третьего дня. Разделение чувствовал. Нынче проснулся в 5 и не мог спать; занялся статьей, и кажется, недурно.
Вчера не писал, нынче 17 апреля 1909. Очень был слаб вчера и раздражителен. Держался кое-как. Просители и личные и письменные раздражали. Дело это надо обдумать. Был Николаев, милый, всегда добрый, всегда серьезный. Вчера прекрасное письмо от отказавшегося. И я говорил Мише о солдатстве — безнадежно… Ездил к Гале, она расплакалась. Добрая, умная. Ничего не работал. Одну главку в статье. Кажется, вся статья — напрасно. Саша огорчительна своей раздражительностью. Нынче первый день спал достаточно и бодрее. […] Утром встал бодро, писал письма и статью, слабо. Статью, кажется, брошу. Общее состояние дурное. Сердце слабо, и тоскливое, недоброе настроение. Получил письмо о Петражицком и о «праве». Хочется написать . В общем же, как ни стыдно признаться, хочется умереть.
20 апреля. Сейчас вышел на балкон, и осадили просители, и не мог удержать доброго ко всем чувства. Вчера поразительные слова Сергея: «Я, говорит, чувствую и знаю, что у меня такая теперь сила рассудительности, что я могу все верно обсудить, решить… Хорошо бы было, если бы я к своей жизни прилагал эту силу рассудительности», — прибавил он с удивительной наивностью. Во всей семье — мужской особенно — самоуверенность, не знающая пределов. Но у него, кажется, больше всех. От этого неисправимая ограниченность. Нарочно пишу, чтобы после моей смерти он прочел. А сказать нельзя. Вчера же получилось в «Русских ведомостях» письмо к индусу . Я прочел, с волнением переживая те мысли; и тотчас вслед за нею воспоминания актера Ленского. Не мог не расхохотаться. Так резок контраст. Ездил верхом. Был француз — приятный . Черткова письмо умно, хорошо, но лучше бы не писать. Написал вчера утром о «Вехах» и письме крестьянина . Нездоровится, голова болит. Хотелось писать вчера. Начал о труде в «Детскую мудрость».
23 апреля. Два дня не писал. Вчера 22-е. Вечером был Николаев, читал Кришну. Ездил с Михаилом Сергеевичем и Таней к милой Гале. Утром читал Михаилу Сергеевичу о воспитании и поправлял. Третьего дня вечером был Страхов, рассказывал об Орлове, играл с девочками. Утром поправлял «О Вехах». «О Вехах», кажется, ненужно. Недобро.
Очень тронуло записанное в «Круге чтения» о том, что с людьми нельзя иначе обращаться, как с любовью. До сих пор не забывал этого, вспоминаю при общении, и очень хорошо. Разделение себя слабее чувствую. Но чувствую иногда. Все радостные письма. Нынче очень нездоровится. Все утро ничего не делал. Читал «Вехи». Удивительный язык. Надо самому бояться этого. Не русские, выдуманные слова, означающие подразумеваемые новые оттенки мысли, неясные, искусственные, условные и ненужные. Могут быть нужны эти слова только, когда речь идет о ненужном. Слова эти употребляются и имеют смысл только при большом желании читателя догадаться и должны бы сопровождаться всегда прибавлением: «Ведь ты понимаешь, мы с тобой понимаем это».
Странное дело, рассказы Страхова вызвали во мне желание художественной работы; но желание настоящее, не такое, как прежде — с определенной целью, а без всякой, цели, или, скорее, с целью невидной, недоступной мне: заглянуть в душу людскую. И очень хочется. Слаб.