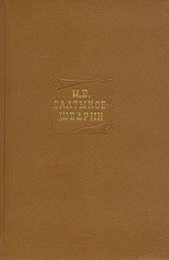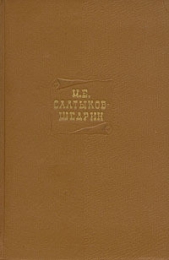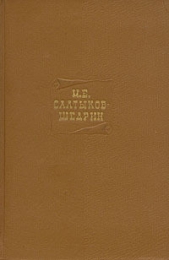Том 7. Произведения 1863-1871
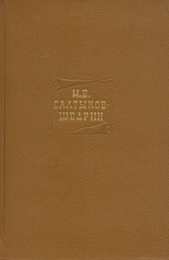
Том 7. Произведения 1863-1871 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В настоящий том входят художественно-публицистические произведения Салтыкова, создававшиеся в основном в конце 60-х — самом начале 70-х годов: сборник «Признаки времени», цикл «Письма о провинции», незавершенные циклы «Для детей» и «Итоги», сатира «Похвала легкомыслию», набросок . Большинство этих произведений было напечатано или предназначалось для напечатания в журнале «Отечественные записки», перешедшем с 1868 г. под редакцию Некрасова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нынче мы, сударь, дровами никогда не топим! — говорят вам в одном месте, — нынче у нас щепа да солома в моду пошли. Было наше времечко! Поцарствовали! пороскошествовали!
— Когда с нас подушные брали, нам не в пример легче было! — говорят в другом месте, — первое дело, платили мы по общественной раскладке, стало быть, у кого засилия больше, тот и душ больше оплачивал; второе дело, коли много уж очень недоимки накапливалось, так или голова, или другой благодетель, бывало, выищется: нет-нет да и внесет за общество! А нынче всяк за себя отдувайся, патента-то никто тебе уж не купит!
— А тут еще дворовых голышей нагнали! — вопиют в третьем месте, — дохнуть от них, канальев, нельзя. Где прежде было два сапожника, там нынче их двадцать два, и все норовят на одном сапоге заплату наставить!
И какую жизнь ведет этот дикий, озлобленный от голода народ — это невозможно даже представить себе. Не говоря уже о тех черных, покосившихся избушках, в которых ютится большинство, посмотрите, какое зрелище представляет зимой самый лучший постоялый двор, в котором отдаются так называемые «чистые комнаты»! Чернота, которая поражала вас еще летом, сделалась еще чернее, увеличившись всею суммою грязи и слякоти, приносимой на сапогах, шубах, полушубках, рукавицах и проч. Мокро, скользко, стены проникнуты сыростью, в воздухе стоит пар. И при этом запах — смесь всевозможных отвратительных воней, немыслимых ни в какой тюрьме. Тут и промозглая сметана, которая поставлена где-то под лавкой киснуть; тут и овчина, и кислая капуста, и махорка, и телячий помет… Читатель! если вы когда-нибудь решитесь отчетливо представить себе эту картину нашей провинциальной торговли и ремесленности, вам, наверное, сделается если не страшно, то тошно *.
Письмо десятое *
Оставим на время вопрос о том, ка̀к делается русская деньга, и обратимся к другому, который в настоящее время поглощает все внимание провинции и, следовательно, имеет за собой преимущество насущного интереса.
Вопрос этот формулируется так: представляет ли строгость самостоятельную творческую силу в отношении к материальному и нравственному развитию народа? или, выражаясь точнее: возможно ли, с помощию одних так называемых решительных мер, увеличить производительные силы страны, повысить нравственный и умственный уровень ее жителей, устранить задержки в фискальных сборах, поселить доверие и т. д.?
Как ни младенчески наивны эти вопросы, но, к сожалению, в жизненности их невозможно усомниться. За ними стоит целая история, и мы, провинциалы, безвыходно живем в атмосфере, ими насыщенной. По временам бесплодность подобных задач делается для нас более или менее ясною, но едва начинают они настоящим образом умирать, как вновь откуда-то является убеждение в их необходимости, и с новою энергией они заявляют о своем существовании. Пускай одни утверждают, что главный двигатель производительности есть капитал; пускай другие приписывают это труду, третьи — знанию, усовершенствованным способам производства, равномерному участию в прибылях и т. д. Мы, жители провинции, стоим на одном: что производительность возрастает и упадает единственно по мере того, как возрастает и упадает строгость. Проще не может быть.
Надо сказать, впрочем, правду, что характер строгости подвергся в последнее время значительному изменению. Когда-то в провинциях наших господствовала строгость простодушная. Были такие счастливчики, которым стоило выйти на улицу, чтоб сказать себе: «Все мое! и стихии мои! и все, что множится, растет и дышит при содействии этих стихий, — все мое!» Некоторые до того простирали свою строгость, что даже говорили: «моя наука, мой климат» и т. д., и никому не приходило в голову возражать против таких похвальных слов. Эта беспрекословность порождала уверенность, уверенность же, с своей стороны, значительно смягчала проявления строгости. Теперь против прежнего сделалось гораздо обременительнее. Тот же счастливчик выходит на улицу и уже сомневается: точно ли все его? Но так как прежнее вожделение еще не остыло, то необходимость признать известную долю конкретности за тем, в чем предполагалась лишь способность мелькать или метаться, невольным образом вносит во все властные отношения какой-то желчно-завистливый, почти что мстительный характер. Прежняя добродушная строгость уже не удовлетворяет потребностей времени; мерещится что-то вроде прекрасного здания, у которого и в основании положена строгость, и стены сложены из строгости, и крышу, то есть венец здания, составляет строгость же.
Построить такое здание и засадить туда россиян — вот идеал, над которым мы в настоящую минуту задумываемся. Разногласия на этот счет хотя и существуют, но незначительные. Одни призывают строгость потому, что вообще не могут совместить свое существование с существованием других; другие, более добродушные, призывают ту же строгость, как меру временную, при помощи которой должны, по их мнению, исчезнуть фантомы, которые все мрачнее и мрачнее рисуются на общем фоне жизни *.
— Только на этот раз! дайте только почувствовать — но почувствовать сознательно и неуклонно, — что спасительное иго еще не упразднилось, и вы увидите, как быстро исчезнут * неурядицы и смуты *, которые загромождают наше существование!
Вот речи, которые говорятся людьми совершенно незлобивыми. Но ежели спросить у этих ревнителей общественного благополучия, что̀ собственно они разумеют под словом «неурядицы», то сквозь тьму всевозможных запутанностей и оговорок вы различите, что это название прилагается безразлично ко всякому проявлению самостоятельности и правоспособности. Есть целый класс индивидуумов, который, по мнению теоретиков строгости, должен, для собственного своего блага, сидеть смирно и ждать погоды. Так, например, ежели подрядчик притесняет рабочих, и последние начинают чувствовать это, им говорят: «Подождите, любезные! потерпите!» * Если человек изнемогает под бременем разного рода непредвиденностей и начинает доказывать ненормальность такого положения, ему говорят: «Нельзя же, мой милый, вдруг! потерпи!» О чем бы ни высказывалось мнение, на что̀ бы ни приносилась жалоба, — всему одно определение: беспокойный характер! на все один ответ: «потерпи!» Сроков не назначается, уважительных причин не приводится. Одно ясно: это присутствие какого-то неслыханного учения, в силу которого к легальности нельзя прийти иначе, как путем упразднения той же легальности.
Слушать подобные рассуждения тяжело до крайности. Точно тени мечутся перед глазами, точно проходит безобразное сновидение. Положение слушающего делается ненормальным до болезненности. Но нет, это не тени и не порождения кошмара — это живые и очень крепкие организмы, в которых есть все (даже есть своеобразное добросердечие), кроме разумного отношения к действительности. Это первобытные люди-самоучки, которые прикрывают свою наготу первым попавшимся древесным листом, не зная и не желая знать, что на свете уже придуманы другие одежды, гораздо более приспособленные к удобствам человека. Первобытный человек неприхотлив и еще менее изобретателен. Действовать на сознание, убеждать, доказывать и вообще «разговаривать» — все это представляется ему потерей времени. Зачем трудиться развязывать узел, когда его можно сразу разрубить? И, к сожалению, повторяем, это совсем не тени, а действительные организмы, которые имеют полную возможность доказать свою несомненную конкретность. И если невыносимо тяжело слушать их безазбучные разглагольствования о пользе строгости, как живоносного начала всякого благополучия, то можно себе представить, в какой мере увеличивается эта тяжесть, когда приходится видеть применение этих разглагольствий на практике, когда приходится жить в атмосфере, ими отравленной. А между тем можно сказать, что это почти насущный наш хлеб, что мы, жители провинции, издавна никакой иной пищи не знаем, кроме строгости, которая упитывает нас едва ли не свыше самой широкой потребности.