На дне. Избранное (сборник)
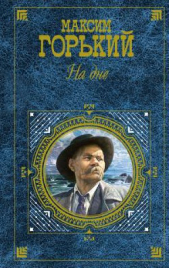
На дне. Избранное (сборник) читать книгу онлайн
Максим Горький (псевдоним Алексея Максимовича Пешкова; 1868–1936) — едва ли не самый известный и вместе с тем самый непрочитанный писатель XX века. Его творческое наследие огромно и разнообразно. В этом томе, составленном на основе современных школьных программ по литературе, перед читателями предстанет разноликий Горький — не только автор самобытной прозы и драматург, но и поэт, а также публицист. Возможно, те, кто окончил школу в советские времена, уже вместе со своими детьми откроют для себя новый образ этого художника слова — способного не только вовремя выпустить пропагандистский роман Мать, но и прозревавшего сокровенные тайны человеческой натуры и людского сообщества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я его понесу…
Поспорили, она уступила, и — пошли, плечо в плечо друг с другом.
— Кабы мне не трюхнуться, — сказала она, виновато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.
Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, всё в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.
Шли — тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына — глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.
Однажды, остановясь, она сказала:
— Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы всё — шла, всё бы шла, до самого аж до краю света, а он бы, сынок, — рос да всё бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя…
…Море шумит, шумит…
Книга
В парке, у стены маленькой старой дачи, среди сора, выметенного из комнат, я увидел растрепанную книгу; видимо, она лежала тут давно, под дождями осени, под снегом зимы, прикрытая рыжей хвоей и жухлым прошлогодним листом. Теперь, когда весеннее солнце высушило ее страницы, склеенные грязью, уже нельзя было прочитать, о чем говорят поблекшие линии букв.
Я пошевелил ее носком сапога и пошел дальше, думая о том, что, может быть, это — хорошая, сердечно написанная книга и немало людей, читая ее, волновались, спорили, учились думать; может быть, кого-то она оплодотворила новой мыслью и многих, в холодные часы одиночества, согрела своим теплом.
Мне вспомнилось, каким добрым другом была для меня книга во дни отрочества и юности, и особенно ярко встала в памяти жизнь на маленькой железнодорожной станции между Волгой и Доном.
Станция стояла в степи, скудно покрытой серыми былинками, в пустоте и тишине, нарушаемой зимою унылым пением снежных вьюг. Летом на станции ныли комары, в рыжей степи насмешливо и тихо свистели суслики, в небе, мутном от зноя, молча кружились коршуны и белые луни.
Бывало, смотришь с перрона в степь: над пустою землей, в свинцовой дали струится марево, на бугорках, около своих нор, стоят суслики, приложив к остреньким мордочкам ловкие передние лапки, точно молятся. А больше никого нет, — дышишь пустотою, и сердце жалобно сжимается от скуки.
Лишь изредка мохнатые чабаны, похожие на святых отшельников с картин, проведут с юга на север отару овец и в тишине степной взвиваются их странные крики:
— Р-ря-о! Р-ря-у…
Подует ветер, осыплет станцию мелким горячим песком, принесет печальное клохтанье дрофы, свист грызунов, — и снова тихо, и жизнь кажется бесконечным сном.
Где-то, в степных балках, прятались казачьи хутора; позади станции, верст за пять, к Волге, прикурнула на неплодной земле деревня — Пески; оттуда к нам зимою приходили бойкие девицы очищать от снега станционные пути, а по ночам на станцию являлись их братья и отцы воровать щиты на топливо и товар из вагонов.
Особенно тяжко жилось в жаркие летние ночи: в тесных комнатах — нечем дышать, духота и комары не позволяют уснуть; всё население станции вылезало на перрон и неприкаянно шлялось повсюду, заводя от скуки ссоры, раздражая дежурных воющими зевками, жалобами на бессонницу и нездоровье, нелепыми вопросами. По двору, точно лунатики, ходят женщины в белых одеждах, босые, с растрепанными волосами: курится костер, прикрытый сырым тальником; в безветренные ночи дым костра встает к небу серым столбом, не отгоняя комаров, — они родятся в мертвых заводях Волги и тучами летят сюда, в сухую степь, на муку людям и на свою гибель.
В глухой тишине, далеко где-то и точно под землею, рождается тяжелый шорох, растет, окутывает станцию железным гулом; поют рельсы, трясутся лампы; кто-нибудь дремотно говорит:
— Тринадцатый идет…
На краю степи в черную кожу тьмы вонзился красный луч, ранил ночь, и по земле растекается влажное пятно света, напоминая кровь. Медленно приближаясь, луч двоится, и вот он стал похож на чьи-то желтые жуткие глаза, они дрожат в гневном возбуждении, — к трем домикам станции ползет из глубины ночи некое алое чудовище, угрожая гибелью. Знаешь, что это — товарный поезд, но хочется представить себе другое, хотя бы страшное, но другое.
Пассажирские поезда, пробегая мимо станции, только усиливают впечатление неподвижности жизни, углубляют сознание отрезанности от нее. Остановится поезд на минуту — из окон вагонов, как портреты из рам, смотрят на тебя какие-то люди; вспыхивают, точно искры в темноте, загадочные глаза женщин, трогая сердце теплыми лучами мимолетных улыбок.
Сердитый свисток — и в облаке пара поезд скользит дальше, лица людей в окнах вагонов странно искажаются, вытягиваясь вбок, все в одну сторону.
К этому мельканию жизни быстро привыкаешь; мимо тебя ежедневно проезжают одни и те же машинисты, кочегары, кондуктора; кажется, что и люди всегда одни и те же, — они стали неразличимы, точно комары.
На станции служило одиннадцать человек, четверо семейных. Все жили точно под стеклянным колпаком, о каждом было известно всё, чего не нужно знать о человеке, и каждый знал обо всех остальных всё, что хотел знать. Все ходили друг перед другом словно голые; человек при первом удобном случае публично выворачивался наизнанку, понуждаемый скукой к нечистоплотным откровенностям и покаяниям.
Играли в карты, страшно пили водку, порою, обезумев от пьянства и тоски, поражали друг друга дикими выходками.
Однажды вечером сторож Крамаренко, молодой, красивый мужик, подошел под окно квартиры смазчика Егоршина, лысенького и богомольного старика, женатого на сироте-казачке, женщине большой и молчаливой, — подошел, разделся донага и стал орать в окно:
— Егоршин, выходи, собака! Выходи, раздевайся, пусть жена твоя видит: который лучше!
Казачка, стиравшая белье, выплеснула на грудь ему ковш кипятку; он завыл и убежал в степь, а Егоршин начал бить жену гаечным ключом. Люди отняли женщину, хотели отправить ее в город, в больницу, но казачка отказалась.
— Не надо, сама виновата, зачем ласково смотрела на него, — говорила она, лежа на дворе, обмотанная кровавыми тряпками, широко открыв синие глаза и облизывая губы маленьким языком.
И дважды спросила тихонько:
— Больно я его обварила?
— Ой, бесстыжая, — шептались женщины и девицы.
Егоршин заперся в квартире и молился, стоя на коленях в луже мыльной воды. Люди смотрели на него в окно и ругали старика.
Утром на другой день Крамаренко взял расчет и пешком ушел со станции куда-то к Дону; шел он вдоль линии дороги странно прямо, высоко подняв голову, как солдат на параде.
А через несколько дней и Егоршин перевелся на другую станцию.
— Это, брат, не поможет тебе, — сказал ему Колтунов, помощник начальника станции, прощаясь с ним. — Тебе в землю надобно переводиться; от горя никуда, кроме как в землю!..
Это был странный человек — Петр Игнатьевич Колтунов. Всегда полупьяненький, болтливый, он, должно быть, имел какие-то свои догадки о жизни, но выражал их неясно, и даже казалось, что он не хочет быть понятым.
Сухонький, тощий, он постоянно встряхивал вихрастой рыжей головой и, прикрывая серые глаза золотистыми ресницами, опрашивал нас — меня, весовщика станции, и товарища моего, телеграфиста Юдина, горбатого и злого:
— Какому богу служите, ребята, а? Потеха!
Или вопрошал сам себя:
— Разве я для того родился, чтобы меня комары ели?
Мы, я и телеграфист, часто и горячо говорили о будущем, он смеялся над нами:
— Потеха! Вы спросите меня: что будет через десять лет, в сей день и час? Я вам верно скажу: то же самое! Лет через двадцать пять? И тогда — то же самое…
Когда я с Юдиным начали читать Спенсера; он, послушав, спросил:
— Англичанин?
— Да.
— Ну, значит, врет! Англичанин правду никогда не скажет.


























