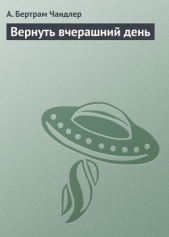Том 7. Мы и они

Том 7. Мы и они читать книгу онлайн
В 7-м томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются ее книга «Литературный дневник» (1908) и малоизвестная публицистика 1899–1916 гг.: литературно-критические, мемуарные, политические статьи, очерки и рецензии, не входившие в книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Можно лишь приветствовать наше общее подчинение этому правильному инстинкту недоверия. И я не только не восстаю и не жалуюсь на него, но, будучи женщиной, всячески, – действенно и жизненно, – его утверждаю. Так нужно еще, потому что слишком еще «женственны» женщины, – и слишком опасна женская ассимиляция ума и творчества. Признаюсь откровенно: везде, где только можно было, мне хотелось защитить подлинное от вторжения женской ассимиляции, защитить, если придется, даже собой, собственным телом. Там, где, думалось, я могу сказать, и сделать что-нибудь, но вставала опасность вовлечь этим в «делание» и «разговоры» многих других женщин, – руки мои опускались и уста замыкались. Ведь даже если (если!) я и еще какие-нибудь женщины скажут и сделают свое, не от своего женского начала идущее, – то не лучше ли пропасть этой ничтожной крупице, но не дать прорваться женскому ассимиляционному потоку? О, конечно, бывали и ошибки. Но что ж делать, женщины должны примириться, что их крупицы часто пропадают. Малые величины пусть стираются.
Любопытно проследить отношение к женщине, – то, о котором идет речь, – на литературных нравах. Тут я имею много опыта. Начиная от критика самого беспристрастного, благожелательного – до грубого бранителя, все всегда помнят, что пишут о женщине. (Уж мне ли этого не звать, ведь и я, то сознательно, а больше бессознательно, так же пишу, тоже помня.) Благожелательный критик в лучшем случае скажет: «…одна из талантливых и умных женщин писательниц»… А зато какое легкое средство «уничтожать» есть в руках незатейливого полемиста, сильно обиженного! Что, мол, тут обращать внимание, ведь это – баба! Аргумент можно повторять на тысячу ладов – всегда убедительно.
Незыблемая точка мира: тут сходятся и старичок Буренин, и новейшие декаденты. И реакция, и либерализм. Равны – друзья и враги.
Недавно, например, уязвленный старой какой-то статьей, ближайший друг мой, Андрей Белый, написал мне отповедь. Я его знаю, это нежнейшая и тончайшая душа, слишком женственная, чтобы быть узкой, слишком мужественная, чтобы быть неумной; правда, он более умен, нежели сознателен; и вот, захваченный чувствами, он поднял общеупотребительное оружие, принялся «язвить» меня: вот, мол, пишет дама, которая, наверно, не знает гносеологии, – а о гносеологии, между прочим, и речи не было.
Мне всегда казалось практичнее самые дорогие мне мысли высказывать под меняющимся псевдонимом, под чужим именем (в крайнем случае осторожно «внушать» постороннему лицу). Только в этих случаях можно надеяться услышать беспримесную оценку их (а в этом, порою, очень нуждаешься), или даже надеяться на прочтение. Ведь полусознательно мы прокидываем почти все, подписанное женским именем. Только о том моем я и знаю что-нибудь, что с именем моим не связано, об остальном нет у меня суда, кроме своего, – который у всех непременно не полон, не верен, не годен. Чужому же суду, ни доброму, ни злому, тут я не верю. Ведь не могу же я, в самом деле, верить рецензентам, которые однажды возмущенно усмотрели в стихотворении моем о физической боли болезни, – порнографию! Если бы это же стихотворение написал кто угодно, только мужчина, никому и в голову бы не пришло искать тут «пола», а следовательно и порнографии. Не могло бы прийти. Но женщина! Женщина и пол – неразделимы, они – едино, говорит Вейнингер (и слепо ощущают все). Значит – писано о поле. И писано так, как нельзя, ибо женщина должна быть скромна. А тут ведь что:
Хотя и сказано, что это говорит «Боль», но наверно это сама авторша. Вот позор для женщины! Вот падение женской нравственности! И т. д. Таких примеров, своих и чужих, могу набрать без конца. Но довольно. Скажу лишь кстати, что в самой современной литературе, в новейших произведениях, от порнографических до талантливых, – ни одним автором не было еще нарушено это мировое, Вейнингером определенное, отношение к женщине: женщина – объект поклонения, вожделения, почтения, презрения или отвращения, зверь или бог, нечто связанное с полом, «совсем другое», нежели человек, – уже потому, что всегда объект.
Арцыбашев ли со своим Саниным, Блок ли с Прекрасной Дамой, – одинаково все они относятся к женщине реальной, к индивидууму человеческому, как к отвлеченной Женственности, а к Женственности – как Вейнингер к своему «Ж». Больше скажу: сами женщины относятся совершенно так же к самим себе. Сочинения какой-нибудь Нины Петровской: «Sanctus Amor» [59] – не более как самообъективизация женщины, признающей пол своей исчерпывающей сущностью и пишущей, как всегда в таких случаях, с помощью ассимилированных ума и «творчества».
Не думаю, чтобы такое общее положение дел могло и должно было сейчас как-нибудь измениться. Единственно, чему пришло время, – это большему осознанию данного положения. Зачем сознавать, скажут мне, если это ничего не изменит, если это сознание – сознание безысходности? Вейнингер, придя к нему, застрелился.
Это правда, Вейнингер застрелился, поняв, что такое «Женственность». Но не забудем, что именно в сознании своем Вейнингер допустил противоречия и ошибки, и только благодаря им он пришел к выводам безнадежно-отрицательным. Кроме того – всякое истинное сознание – реально, оно часть действительности, а потому новое сознание действительности есть новый факт, привходящий в эту действительность и тем самым уже как-то ее изменяющий. Во всяком случае – указывающий направление, следуя которому она могла бы и должна бы измениться. Если мы станем это отрицать – то нам придется отрицать и всякую нужду правильного диагноза болезни, которую мы не знаем как лечить. Мы, однако, открываем бациллы, против которых остаемся беспомощными; и допускаем, что не только мы, но еще десять поколений будут перед ними беспомощны, пока одиннадцатое, воспользовавшись предыдущей работой осознания, не увидит, что и сыворотка уже почти готова, что реальность изменилась. Можно взять и другой пример: революция, длящаяся месяц, изменяет реальность; но не этот месяц, в сущности, изменяет ее, он только увенчивает долгие годы работы сознания, годы, когда, кажется, ничего не происходило, все было неизменным.
Я говорю, приводя эти примеры, лишь о значении нашего сознания вообще. Возвращаясь же к Вейнингеру и к вопросам, им поднятым, – о сущности пола, о существе двух мировых начал, о взаимоотношениях полов в реальном человечестве, – мы должны признать, что если когда-нибудь тут и мыслима своя «революция» – она должна быть более коренной, нежели всякие революции научные и государственные. О ней почти нельзя рассуждать, а разве только мечтать, довольствуясь сейчас, в жизни – лишь скромной работой осознавания действительности.
С уверенностью в окончательной двойственности мира и неистребимости зла – жить нельзя. Это и доказал Вейнингер. Но если мы не повторим его ошибок, если мы увидим, что в том же мире, в том же человечестве есть и сила синтезирующая, сила единства, есть стремящаяся родиться и развиться истинная Личность, мы не сможем окончательно отвернуться от мира, не захотим проклясть его, как Вейнингер, который из-за страха перед ложным Небытием не увидел надежны растущего, молодого мира – на Бытие истинное.
Слезинка Передонова
То, чего не знает Ф. Сологуб *
Как-то раз, – давно, – рассуждая о рифмах, мы открыли, что самые глубокие слова русские – «одиноки», безрифменны. Одинока «правда», одинока «истина».
Брюсов тут же вызвался написать стихотворение с рифмой на «истину» и действительно написал свое: