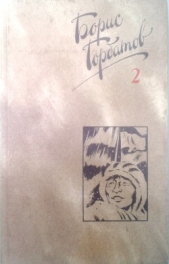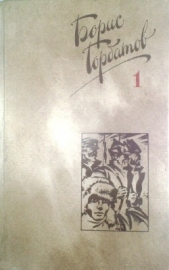Собрание сочинений в четырех томах. Том 3

Собрание сочинений в четырех томах. Том 3 читать книгу онлайн
Том 3 - Очерки, рассказы, корреспонденции
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это — монастырский колокол. Вон он белеет, монастырь, белыми стенами, а из-за стен блестят главы и кресты.
Хорошо там живут монахи, ишь ходят черные — сытые, ядреные. Да и как им сытно не жить — эва, кругом все ихние, монастырские, поля; а по речке — ихние, монастырские, заливные луга; а за лугами — ихний, монастырский, лес. Угодий у монахов поди столько же, сколько и у барина.
Крестьянину курицу, скажем — курицу, и ту выпустить некуда.
Ну, как же монахи — сами экую махину земли и обрабатывали? Да нет же, не для работы жили монахи в монастыре, а для молитвы за грехи.
Крестьяне-то бесперечь грешат и тянут грехи в монастырь, а монахи их отмаливают, да не даром. За отмоленье крестьяне и землю вспашут, и луг скосят, и делянки в лесу вырубят; бабы снопы повяжут, и сады уберут, и холстов монахам наткут, и за коровами, за птицей походят, — вот громадное монастырское имение и справлено. За это измученные, зарезавшиеся на работе, голодные, оборванные крестьяне идут домой чистенькие от грехов, как младенцы новорожденные, а монахи садятся за стол и вкусно и сытно едят, по кельям и винцо попивают.
Опять у монастыря и другой доход. Прогнали крестьяне по монастырской дороге скот — плати. Упустили крестьяне лошадь на монастырскую землю — плати. Пошли бабы грибков набрать в монастырский лес — плати. Крестьянин плачет, а монахи радуются, — много доходу.
Так и жили, с одной стороны — деревня, с другой — монастырь.
«К на-ам!.. к на-ам!..»
Идут в монастырь старухи, молодые бабы, девки; несут ребятишек, идут крестьяне, несут свое горе, свою нужду, несут к богу да к попу, — куда же крестьянину больше и нести? Не к кому во всем свете.
А поп накроет епитрахилью и скороговоркой (очередь-то исповедников — страсть!) спрашивает грехи. Ох, много у крестьянина грехов, на воз не заберешь. А поп уже: «Отпускается и разрешается... во имя отца и сына...»
Только с бабами поп подолгу и ласково толкует под епитрахилью, подробно выспрашивает грехи и ласково и громко именем бога отпускает их.
А бабы и рады. Поп все время — и в проповедях, и на дому с молитвой, и где встретится — всегда громким, покоряющим голосом говорит крестьянам о грехах, об аде, о пещи огненной, где гореть крестьянам в огне неугасимом.
И начинают верить крестьяне: все несчастья, все горести, все беды, все разорение — от грехов; кабы не грехи, жили бы беспечально.
Пришел хромой солдат. Накрыл его поп, спрашивает про грехи. Твердит солдат: «Грешен, грешен, грешен...» А поп спрашивает:
— Не палил ли бариновы скирды? Не резал ли сиськи помещичьим коровам? Не поджигал ли усадьбу?
Затаился хромой и сказал глухим голосом:
— Нет... в этом не грешен, батюшка.
— Отпускается и разрешается... отца и сына...
Подошла хромого баба, положила поклон, накрыл поп и слышит — шепчут истомленные, истрескавшиеся бабьи губы:
— Грешная... грешная... грешная, батюшка.
А поп строго:
— Помни, грех смертный на исповеди перед самим невидимо присутствующим богом укрывать грехи.
И загремел поп божеским гневом:
— Проклятие господне незамолимое на том, кто перед господом не откроет свою грешную душу!
Потом опять заговорил ласково и внушительно:
— Не палил ли твой муж бариновы скирды? Не резал ли сиськи помещичьим коровам? Не поджигал ли усадьбу?
Задрожала баба, от пят до головы задрожала, и чует — замерла вся церковь. А церковь все та же: одни крестятся, другие стоят на коленках и кладут поклоны, третьи возжигают свечечки перед ликами святых, а иные сидят на полу, дожидаются исповеди, — как было в церкви, так и есть. Стоит баба ни жива ни мертва. И так рванулось сердце у ней, а вдруг скажет она последний страшный грех, очистится душа, как говорил батюшка, от всякия скверны, и господь оглянется на них, снимет все тягости, все горести, все бедствия-несчастия, всю нищету снимет со всей деревни, и перестанут умирать от голоду ребятишки, перестанут их бесперечь таскать на погост, перестанут маяться неизбывной маятой крестьяне и бабы, вздохнут все.
И закапали у бабы слезы, закапали под епитрахилью — замученные вековечные бабьи слезы, закапали ей на руки, на аналой, на крест, на евангелие, а поп к самым губам ухо протянул. Ах, бабочка сердечная, али не прожгут твои слезы креста медного, золоченого, не прожгут насквозь до самой до земли!
И прошептали ее уста:
— Грешен, батюшка, резал, поджигал.
— А еще кто?
— Еще, батюшка, Микитка Ржаной.
— Еще кто?
— Еще Федор Кривой.
— Сколько всех человек?
— Пятнадцать, батюшка, пятнадцать.
— Кто да кто?
— И Иван Косой, и Володька Притыкин, и... пятнадцать, всех пятнадцать, — пересчитала бабочка, — пятнадцать.
Заспешил поп, засуетился, — исповедников эва сколько ждет.
— ...отпускается и разрешается... во имя отца...
Идет бабочка, земли под собою не чует: снял батюшка с них грехи, теперь господь оглянется. А в сердце занозина, тонкая занозина: болит сердце. И с чего бы сердцу болеть, коли снял господь грехи?
Через три дня арестовали хромого солдата, и Микиту Ржаного, и Федора Кривого, и всех пятнадцать человек.
К БОГУ НА ПОМАЗАНИЕ
Пышно справлял царь свою коронацию, да как ему не справлять пышно, коли у него земли — на миллионы и много миллионов крестьян, надрываясь, пашут ее.
Пышно справляли коронацию помещики-дворяне. Да и как им не справлять ее пышно, — царь ведь среди них первый помещик-дворянин.
Вся Москва была залита огнями. Царь ехал в золотой карете. В нее запрягли двенадцать белых молодых лошадей. Молодые лошади белыми бывают только в одном месте — у арабов в Аравии. Их и привезли оттуда за много тысяч верст и за много тысяч рублей — крестьянская копейка таровата.
За царем двигалось бесчисленное духовенство. Митрополиты, архиереи, попы, дьяконы — и все в золотых ризах, с золотыми крестами, осыпанными бриллиантами и драгоценными каменьями, — крестьянская копейка таровата. А на головах у них — у одного золотое ведро, у другого — золотой круглый горшок кверху дном, у третьего — бархатный вареник. И все это осыпано алмазами, разноцветными каменьями, — крестьянская копейка таровата. Царь пускает духовенство вперед потому, что оно составляет главную опору власти царя и помещиков над крестьянами. И эта опора была сильнее полиции.
А за духовенством тянулись дорогие кареты, а в них сидели помещики в шитых золотом дворянских мундирах и помещицы в умопомрачительно дорогих платьях, выписанных из-за границы, — крестьяне недаром трудились в поте лица над помещичьими землями. А дальше шли чиновники, полиция, войска — все, на чем держался царь и помещики и что держалось на одном крестьянине, который кормил их.
ПО ВЛАДИМИРКЕ
По Владимирке, которая без конца уходила в туманную даль, далеко растянувшись, шла арестантская партия. Глухо и тяжело звякали цепи на руках и ногах. Скрипели подводы с клажей и больными, сурово шли конвойные, готовые стрелять при малейшей попытке к бегству.

Кучкой идут крестьяне, бородатые и безусые, и позванивают мерно в шаг ручными и ножными кандалами. Один прихрамывает на ногу. Держатся друг к дружке, — пятнадцать их.
И одна у них дума о далекой-далекой деревне, — никогда уже, никогда ее не видать...
...Горя реченька.
Горя реченька бездонная...
Идут, мерно позванивая, и не вспоминают барина. Не знают и не чуют, что и баринов черед все ближе и ближе, черед его аренде, его усадьбе, имениям, его сладкой, беспечальной жизни — не знают горюны.
И идут, и идут днями, неделями, месяцами, и тысячи верст идет с ними кандальный звон и в жар, и в дождь, и в мороз, и в слякоть, — кандальный звон, в далекую мерзлую Сибирь, в мертвую каторгу.