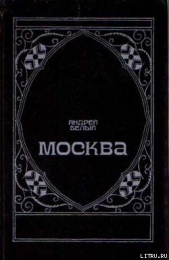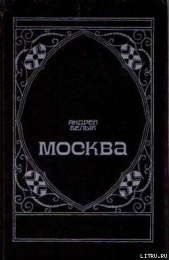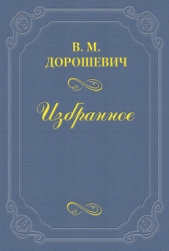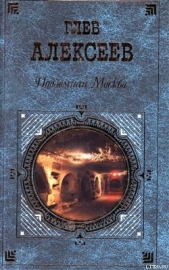Том 3. Московский чудак. Москва под ударом

Том 3. Московский чудак. Москва под ударом читать книгу онлайн
Андрей Белый вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
В третьем томе Собрания сочинений два романа: «Московский чудак» и «Москва под ударом» — из задуманных писателем трех частей единого произведения о Москве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Смотрите-ка!
— Что?
— На обоях!
На ясном куске — отпечаток руки: пять коричнево-красных пятна — пяти пальцев:
— Кровь!
Оба — в столовую!
Чьи-то подошвы опять-таки были забрызганы кровью: отчетливо.
Грибиков видел: из двери профессорской вышла, шатаясь и горбясь, горилла, утратившая человеческий образ, коричневой кровью пропачканная; белый волос, оборвыш, дрожал под ее подбородком.
И Грибиков — вскрикнул.
Горилла пошла переулком; а Грибиков, дергаясь, бегал туда и сюда; и кричал, и стучал:
— Помогите!
— Несчастие!
Выскочили — кое-как, кое в чем:
— Где?
— Куда?
— Кто?
— Второй Гнилозубов.
— Держи!
— Задержали!
Здесь скажем: горилла жила трое суток еще, но без сознанья была; проживала в тюремной больнице она — вне себя, неопознанная!
Собрались под дверью.
И заспанный, тут же чесался Попакин, — с трухой в године; рожа — ком; в кулаке — сорок фунтов; глаза — оловянные; нос — сто лет рос; брылы — студень вари:
— Ты-то что!
— Продежурил!
— Проспал.
— У тебя, брат, под носом — вот что; а ты — что?
— Видно, правильно, что в русском брюхе — сгинет долото!
Что-то силился он доказать; да — петух засел в горло; и там — кукарекал: что нес — невозможно понять.
25
Кавалькас и портной по кровавому следу прошли коридором; вот он — кабинетик: кисель из бумаг; черно-серый ковер странно скомкан; в углу — груда книг; этажерка упавшая; кокнули черное кресло; без ножки лежало.
Кровь, кровь!
Но два шкафа коричневых, туго набитых тяжелыми и чернокожими книгами, были не тронуты; та же фигурочка шлa черно-желтого там человечка: себя догоняла на фоне зеленых обой, на которых бюст Лейбница гипсовой буклей белел; и на гипсовой букле — кровавое пятнышко.
След вел на лестницу; лужа кровавая капала — все еще — сверху; бежали отсюда к террасе: с террасы, наверное, вынесли труп.
Нo с порога распахнутой двери — назад; потому что, стуча сапожищами, с ямы могильной пошел откопавший себя и к себе возвращавшийся труп.
Он злател на заре перепачканной кровью пропекшейся мордой; на них шел со связанными крепко за пояс перековерканными руками и протопыренными, точно крендель, локтями, в халате растерзанном, с вывернутой головою —
— вверх, вверх, —
— рот раздравши, оскалясь зубами, как в крике; но крик был — немой, потому что из рта вместо крика мотался конец перемызганной тряпки. Кричал своей тряпкою!
Из коридора влетела толпа оголтелых людей: Ореал, Телефонов, Парфеткин, Попакин; и — прочие; все — отшатнулись: на фоне зари, став в пороге, имея направо припавшего ниц головой горбуна и налево имея урода безносого, — посередине возвысился; и на стоящего посередине, в пороге, указывали — справа, слева — перстами дрожащими: карлик, горбун, восклицая всем видом:
— Не умер, но — жив!
Это тело со вздетой главой созерцало высоты, в которых расширилась новая «Каппа», звезда, точно жалуясь немо на то, что пространство вселенной есть кривда сплошная, в которой родятся и мрут.
Как вошел, так и стал.
Уже тряпку тащили из рта, уж и — вытащили; рот зиял, не смыкаясь; сдвигали, — не сдвинулся:
— Что ж он?
— Кривляется?
— Станешь кривлякою!..
— Перековеркали!
В диком безумии взгляда — безумия не было; но была — твёрдость: отчета потребовать, на основанье какого закона возникла такая вертучка миров, где добрейшим, умнейшим глаза выжигают; казалося, что предприятие с миротворением лопнет, что линия миропаденья — зигзаг над открывшейся бездною, что голова эта вовсе не нашей планетой, системы (на нашей не выглядят так!) оторвется от шеи и, крышу разбивши губами распухшими, вырвется из атмосферы земных тяготений —
— и солнечных, —
— чтобы поднять громкий
крик, от которого, точно поблекший венок, облетит колесо зодиака; казалось, — пред этой растерянной кучкой дрожащих от страха, которых глазные хрусталики воспринимали щекоту, создавшую марево тела кровавого, — перед растерянной кучкой стоял, вопия всем оскаленным ртом, —
— страшный суд!
26
Здесь не место описывать, что было далее: как отмывали от крови, свалив на диван, как какие-то там вызывали карету, стоявшую перед подъездом, где густо роились и где полицейский покрикивал:
— Эй!
— Расходись!
Прошел костреватый мужчина, — застенчивый, нерасторопный; прикладывал руку свою к протоколу и он: Кисло-гнездов!
Вот — вывели!
Был же — не «он», а «оно»; и «оно» — тихо тронулось, бунт пересилив: «оно» — было немо; молчало, ведомое сквозь обывателей, в страхе глазеющих, ринувшихся, вызывающих памятный образ былого, когда еще было «оно», юбиляром; тогда, как теперь, окружили и так же куда-то тащили; несение «Каппы-Коробкина» в сопровождении роя людей походило на бред бичевания более, чем на мистерию славы.
Встал еще образ: какой-то «Коробкин», открытие сделавший мелом на стенке кареты, бежал за каретою, пав под оглоблей; карета с открытием, но без открывшего пересекала пространства безвестности, ныне ж в карету садилось «оно», чтоб стремительно ринуться: через пространства — в безвестность.
Куда «оно» ринулось!
Передавали друг другу:
— В приемный покой!
— Врешь, брат, — в клинику!
— В дом сумасшедший!
Молчало «оно» с очень странным, сказали бы — с дико-лукавым задором; и — даже: с подмигом. Как будто бы всем говорило «оно»:
— Человекам все то — невозможно, а мне «оно» стало возможным.
— Я стал путем, выводящим за грани разбитых миров.
— Стало осью творения нового мира.
— Возможно мне «это»!
— Пусть всякий оставит свой дом, свою жизнь, свое солнце: нет собственности у сознания; я эту собственность — сбросило!
— Свергло царя!
— Стало — «мы»!
Этот взгляд одноокий в окошко кареты подмигивал мимоидущим:
— Я знаю, — не можешь за мною идти: я иду по дороге, которой еще не ходили.
— И ты — отречешься!
— И — ты!
Вот — подъехали: вынули, вывели; и — повели: коридорами, камеры, камеры, камеры; и — номера! Номер семь!
Но из камеры желтого дома, — из камеры, стены которой обиты мешками, в которой воссело «оно» в своем сером халате, со связанными рукавами, — «оно» станет молньей — с востока на запад: вернется огнем поедающим; некуда будет укрыться от этого дикого взгляда; и некуда будет убрать с глаз долой: стены тюрем — вселенных — падут!
И возникнет все новое.
27
Над многоверхой Москвой неслись тучи.
В ночь дождик прошел; и оплаканный встал тротуар; начиналась людская давильня: и перы, и пихи; везде — людогоны; везде — людовозы.
Москва!
Да, — она!
Здесь к абакам принизился четким фисташковым выступом легкий фронтон, треугольником врезанный в синеподтянутый, в холоднооблачный день; здесь литою решеткой, скрещением жезликов, отгородился от улицы дом, здесь же каменный, серо-ореховый дом облеплялся белясой известкою (грушами, яблоками); и — так далее, далее: дом деревянный, с дубово-оливковым колером, весь в полукругах, усевшийся в блеклые зелени садика; церковки: здесь — витоглавая, там — златоглавая; угол; пальметты, гирлянды, дантиклы, бордюр виторогих овенов; вновь отстроенный, восьмиэтажный домина пространство обламывал; там начиналась ватага таких же кофейных, песочных и серых домов: дом за домом — ком комом; и — рыцарь в изваянный пламень дракона разил лезвеем тяжкокаменным — с башни: под облаком.
Над многоверхой Москвой неслись тучи.
И вдруг просочилося солнце сияющим и красно-капельным дождиком; вновь обозначился мокрый булыжник.
Людская давильня.
Сплошной человечник: смешки, подколесина брызжущих шин, таратора пролеток, телег, фур, бамбанящих бочек и смена катимых фигур говорила, казалось, о том же, о чем говорила вчера; но уже было ясно: огромное что-то случилося.