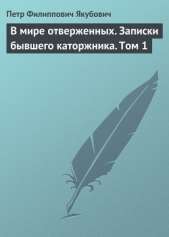В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
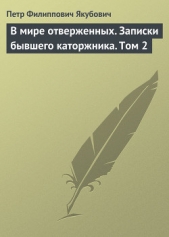
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2 читать книгу онлайн
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы. Существовал и другой также закон, в силу которого человек, «забритый» в солдаты, становился уже мертвым человеком, в редких только случаях возвращавшимся к прежней свободной жизни (николаевская служба продолжалась четверть века), и не мудрено, что, по словам поэта, «ужас народа при слове набор подобен был ужасу казни»…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Куда лезешь, жид пархатый? Разве не видишь, тут прежде тебя люди стоят?
— А цто ж, я разве не человек? Мои дети не такие ж, как твои? Так же пить-есть не хотят?
— Ах ты, чувырло жидовское! Туда же разговаривать! Туда же в человеки лезет!
Но Мойша не сдается и упорно отстаивает свои права человека. На колотушки он внимания не обращает, на брань — того меньше. Вот его «детоцки» напоены, накормлены. Маленькие уже прикорнули и спят, сплетясь друг с другом ручонками и закутавшись во всевозможное арестантское барахло, старшие же еще копошатся, приводя в порядок разные хозяйственные принадлежности. В сознании честно исполненного за сегодняшний день долга сам Борухович лежит, развалившись на шубе, и мечтает. О чем он мечтает? Об умершей жене, счастливом прошлом, о детях, о предстоящем им будущем? Или просто прислушивается к разноголосым звукам, несущимся из того кромешного ада, который представляет собой камера? Нередко, лежа на спине и заложив руки за голову (любимая его поза во время этих вечерних отдыхов), он напевает вполголоса какую-то длинную, монотонную, заунывную арестантскую песню, единственную, которую он знает и в которой можно разобрать только один часто повторяющийся стих:
— Эй, жид! — кричит ему кто-то из темноты под нарами. — Не эту ль песню вы пели, как из земли египетской вас выгоняли?
— А ты фараоном был тогда, цто ли? — бойко огрызается Борухович и иногда, в знак высшего презрения, прибавляет как бы про себя любимую свою поговорку: — Тозе, видно, корова и тозе издохнуть хочет.
— Вишь, гадина, еще и лается, — отвечает неизвестный, особенно почему-то обиженный названием фараона. — А слыхали ль вы, братцы, как жиды промеж себя ругаются? Я слыхал. Один говорит другому: «Черт побери твоего батьку!» А тот отвечает: «Врешь, дедку твоего!» Первый ему: «И отца, и деда, и прадеда твоего деда!» Тогда другой озлится и кричит: «Я хочу, чтобы у тебя был дом, и в этом доме было сорок комнат, и в каждой комнате по сорока кроватей. И пусть тебя сорок дней трясет лихоманка, такая, чтоб перебрасывало тебя с кровати на кровать, из комнаты в комнату». Вот как, ребята, жиды бранятся.
— Ну спи, дьявол! — толкает рассказчика жена, и под нарами водворяется безмолвие.
Наконец показался и Горный Зерентуй, конечная цель пути партии. Поднявшись на гору, арестанты увидали в отдалении белую каменную тюрьму и большую прилегающую к ней деревню с церковью посередине. У каждого невольно сжалось сердце от смешанного чувства радости, что окончились долговременные мытарства этапного путешествия, и вместе тревоги за близкое, но неведомое будущее. Вот она, каторга! Какова-то она? Лучше или хуже дороги? Ну, никто, как бог, везде люди.
Для Боруховича каторга не была новостью, он переводился только из одной тюрьмы в другую. Тем не менее и у него сердце забилось в груди сильнее. Одни детишки не чувствовали ни малейшей тревоги и радостно указывали друг другу на ярко белевшие стены централа. Они настолько наслышались о Горном Зерентуе, родители их столько мечтали о переводе в эту тюрьму, что она представлялась их воображению чем-то вроде земного рая или по меньшей мере такого места, где не будет больше ни холода, ни голода.
Пешие арестанты прибавили ходу; лошади, почуяв близость стойла, заржали и побежали веселой рысцой. Вот потянулись уже и дома чиновников тюремного ведомства, почтовая контора, каторжное управление; вот наконец и самая тюрьма, большое, красивое, чистое здание, ослепительно сияющее своей белой каменной оградой. Точно не тюрьма, а какой-то фантастический замок рыцарских времен, с башнями, амбразурами, рвами, подъемными мостами… Все ново, невиданно для глаза, привыкшего к грязи и неприглядности сибирских этапов. Партия остановилась у ворот в ожидании приемки.
Явился помощник смотрителя, молодой еще человек, небольшого роста, круглый, плотный, приветливый и, видимо, беззаботный по части службы. Принимал он быстро, читая по списку фамилии арестантов, прибавляя к ним по временам безобидные остроты и делая беглый осмотр казенным вещам. Мужчин надзиратели уводили поодиночке в ворота тюрьмы, женщин с детьми пускали в вольные бараки, а некоторых из ребятишек тут же заносили в список кандидатов на помещение в приюте. Дошла очередь и до Боруховича.
— Ну, брат, ты двадцатилетний? За ворота! Тюремный житель! — улыбаясь, прокричал ему помощник.
— А детишек моих в приют отошлете? — робко спросил Мойша, подобострастна держа в руках шляпу и склонив бритую голову.
— Каких детишек?
— А вот этих самых, пятерых… Сын Абрам, одиннадцати лет, и четыре девоцки: десяти, восьми, шести и четырех лет.
— А мать где?
— Мать на том свете. Дорогой померла.
— Вот так фунт! Как же быть? — смутился беспечный чиновник. — Сразу нельзя ведь в приют их отправить… Да постой, брат, постой: ты еврей?
— Еврей, ваше благородие.
— То-то, я смотрю, язык будто недоклепан, — обрадовался помощник, точно отыскав вдруг желанный исход. — Ну так детей твоих, братец, в приют не примут.
— Как не примут?
— Да так. Приказ получился от попечителя приюта, чтоб еврейских детей был известный только процент; а их и так уж незаконное число. Как же быть? Эй, Трофимов! — обратился он к одному из надзирателей. — Беги, паря, сейчас же к смотрителю, скажи, что я прощу по важному делу. Ну, а ты, голубчик, ступай в тюрьму, нечего тебе тут больше делать.
— Ваше благородие, как же я пойду? Дозвольте дождаться господина смотрителя. Пусть вырешит дело.
Помощник не стал противоречить и, отвернувшись от Боруховича, продолжал приемку других арестантов. Полчаса спустя из-за угла тюрьмы появился, ступая медлительными шагами и опираясь на палку, сам смотритель тюрьмы, солидный господин с окладистой черной бородой и неприветливым взглядом исподлобья. Еще не приблизился он и на тридцать шагов к партии, как надзиратель громко прокричал:
— Смирно, шапки долой!
Помощник быстро подошел к смотрителю, сделал под козырек, отдал рапорт и объяснил, почему счел нужным потревожить его.
— Еврейских ребятишек никак нельзя принять, — отвечал тотчас же чернобородый господин, искоса взглянув на униженно стоявшего перед ним Боруховича и на его сомкнувшихся в стороне тесною кучкой детей. Мойша повалился в ноги.
— Ваше вишокоблародие, ваше!.. Куда зе их теперича? Малютки!..
— Встань, встань, чтоб этого не было… Я не бог и не царь, — оборвал его смотритель. — Да и вы все, — обратился он к шпанке, будто сейчас только заметив обнаженные у всех головы, — шапки надеть.
— Ваше вишокоблагородие, как зе теперича?..
— А так же, что не разговаривай и ступай в тюрьму.
— А дети?..
— А что ж я могу сделать? К себе, что ль, на нос посадить? Нельзя принять в приют. Закон!
— Не доложить ли разве заведующему каторгой? — несмело вставил помощник смотрителя.
— О чем?
— Да вот о детях… Что, мол, на улице… Отец в тюрьме, мать умерла.
— Заведующий каторгой еще вчера утром сделал замечание, что в приюте уже целых девять еврейских мальчиков. Скоро весь приют жиденята заполонят.
— Так как же быть?
— Да так же и быть! Мы не в богоугодном заведении с. вами служим. Извольте делать свое дело. Надзиратели, отведите арестанта в тюрьму!
Два надзирателя немедленно бросились исполнять приказание начальства и хотели было потащить Боруховича; но он точно обезумел: с силой вырвался из их рук и посмотрел вокруг с таким грозным видом, что надзиратели остановились…
— Как, ваше благородие? — закричал он, кидаясь снова к смотрителю, который попятился на два шага и инстинктивно вытянул вперед палку. — Как! Еврейские дети разве щенята, что их на мороз можно выкинуть, без матери, без отца оставить? Они разве пить-есть не просят, не плачут, как другие дети? Евреи совсем не люди? Нет! Я не пойду в тюрьму, я не брошу их на улице — лучше убейте меня, прикажите солдатам застрелить меня… Или души во мне нет, что я кровь свою покину, шкуру спасаючи? Господа начальники! И над вами бог… И вы — люди.