Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2
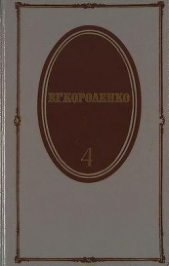
Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2 читать книгу онлайн
В том включены первая и вторая книги «Истории моего современника» (1853–1921), итогового произведения писателя, отразившего социально-политические и нравственные искания его поколения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Настроение было глупое, и я, конечно, сознавал, что оно глупо: самая подпись Ермакова была печатная. Такие извещения сам он даже не подписывает, а их сотнями рассылает канцелярия. Я знал это, но это знание не изменяло настроения. Зналя по-умному, а чувствовалпо-глупому. В то самое время как я внушал себе эти трезвые истины, рот у меня невольно раскрывался до ушей. И я должен был отворачиваться, чтобы люди не видели этой идиотской улыбки и не угадали бы по ней, что меня зовет Ермаков, которому я лично необходим к пятнадцатому августа…
С юношеским эгоизмом, я как-то совсем не принимал участия в заботах матери о моем снаряжении. Она закладывала где-то свою пенсионную книжку, продавала какие-то вещи, просила, где могла, взаймы и, наконец, сколотила что-то около двухсот рублей. После этого происходили долгие совещания с портным Шимком.
Портной Шимко был небольшого роста коренастый еврей, с широким лицом, на котором тонкие губы и заостренный нос производили впечатление почти угрюмого комизма. Пока был жив отец, мы всегда смеялись над Шимком, изощряя свое остроумие над его наружностью и его предполагаемыми плутнями. Когда отец умер и мать осталась без средств, он явился к ней, критически обследовал состояние наших костюмов и сказал серьезно:
— Ну, пора шить одну шинель и два мундира.
— Ты знаешь, Шимко, что у меня теперь нет денег, и что еще будет, я не знаю, — грустно ответила мать.
— Ну, — возразил Шимко, — у вас нет денег, но есть дети… Разве это не деньги?..
И он опять работал на нас, не заикаясь о сроках уплаты и никогда не торгуясь, как это бывало прежде.
Теперь он развернул свою деятельность у нас на квартире. Осведомившись, желаю ли я, чтобы он шил «по самой последней моде», и узнав, что последнюю моду я презираю, он даже крякнул от удовольствия и дал полную волю своей творческой фантазии. Он мочил и парил материалы, снимал мерки, кроил, примерял, шил, и наконец из его рук я вышел экипированным не особенно щеголевато, но зато дешево. Он сшил мне летний костюм из какой-то очень прочной и жесткой материи с желтыми миниатюрными букетцами по коричневому полю. Кроме того, он сшил еще пальто. Мне смутно казалось, что прочная материя с букетами дает идею скорее об обивке мебели, чем о костюме для столицы, а пальто походит на испанский плащ или альмавиву…
Но на этот счет я был неприхотлив и беззаботен. Оставив в стороне моду, я чувствовал себя одетым с иголочки, «довольно просто, но со вкусом».
Увы! впоследствии этот полет творческой фантазии честного Шимка доставил мне немало горьких и неприятных минут…
На каникулы приехал Сучков, уже год проживший в столице, и, конечно, я закидал его вопросами. Он почему-то был скуп на рассказы, но все же я узнал, что институт — это совсем не то, что гимназия, профессора нимало не похожи на учителей, а студенты — не гимназисты. Полная свобода… Никто не следит за посещением лекций… И есть среди студентов замечательные личности. Иного примешь за профессора. А какие споры! О каких предметах! Нужно много прочитать и подготовиться, чтобы только понять, о чем идет речь…
Вскользь и как бы мимоходом он сообщил мне, что остался по разным причинам на первом курсе, и, значит, мы опять будем идти вместе.
В середине этих каникул мне исполнилось восемнадцать лет, но мне казалось, что я далеко перерос окружающий меня мирок. Вот он весь тут, точно на плоской тарелке, волнующийся в пределах от тюрьмы до почты, знакомый, прозаический и постылый. В один из последних моих вечеров, когда я прощальным взглядом смотрел на гуляющую по шоссейной улице публику, — передо мной вдруг вынырнуло из сумерек лицо чиновника Михаловского, которого я считал когда-то «известным поэтом». В зубах у него была большая сигара, и ее огонек, вспыхнув, осветил удивительно неинтересное, плоское лицо, с выпуклыми, ничего не выражающими глазами. Как еще недавно этот человек казался мне окруженным поэтическим ореолом. И как много других казались высшими существами только потому, что они были взрослые, а я был мальчик. Теперь я вырос, а тесный мирок сузился и умалился… Прежние умники казались или глупыми, или слишком обыкновенными… Кого теперь поставить на высоту, перед кем или перед чём преклониться? Где здесь люди, которые знают и могут указать высшее в жизни, к чему стремится молодая душа?.. Кто из них хотя бы только думает об этом высшем, ищет его, тоскует, мечтает… Никто, никто!
Во мне сложилось заносчивое убеждение, что я едва ли не самый умный в этом городе. Мерка у меня была такая: я могу понять всех людей, мелькающих передо мною в этом потоке, колышущемся, как вода в тарелке, от шлагбаума до почты и обратно. Я знаю все, что они знают, из того, что нужно знать всякому. А они и не догадываются, какие мысли о них и какие мечты бродят в моей голове.
Я был глуп. Впоследствии, когда сам я стал умнее, я легко находил людей выше себя в самых глухих закоулках жизни. Но в ту минуту я, кажется, мерял все одною только меркой «литературного развития».
Впрочем, нужно сказать, что по отношению к другому миру, который ждал меня там, за рубежом пятнадцатого августа, я не был заносчив. Наоборот, я готовился к нему с искренним убеждением, что перед ним я мал, тускл и ничтожен. Правда, во мне жила надежда, что и там, в этом светлом потоке могучей и полной жизни, я пойду тоже вперед, выравняюсь с одними, стану обгонять других… Но если бы кто-нибудь пожелал убедить меня, что между этим мирком, который я покидал, и тем заманчивым миром, куда стремился, нет качественного различия, что «великое студенчество» есть только простая сумма из единиц, по большей части таких же тусклых и так же мало интересных, как и я в данную минуту, — я бы не поверил и даже, вероятно, обиделся бы за свою мечту…
II. Дорогой я знакомлюсь c «светлой личностью»
Мать и один из ее братьев, живший недалеко, провожали меня до Бердичева, откуда начинался железнодорожный путь. Он лежал на Киев, Курск, Орел, Тулу и Москву.
Третий звонок. Я горячо обнялся с матерью, которая затем спрятала заплаканное лицо на груди дяди, и сел в вагон. Резкий свисток, вспугнувший непривычную публику, потом толчок, от которого в вагоне упало несколько человек. Потом оттолчка, лязг, громыхание (тогда в поездах все еще не было слажено, как теперь) — и вокзал с платформой поплыл назад. Фигуры матери и дяди исчезли. Я сел на свое место и постарался скрыть от соседей невольные слезы…
Прямых сообщений тогда не было, каждая дорога действовала самостоятельно. Поезд из Киева на Курск ушел раньше, чем наш пришел в Киев, и в ожидании следующего мне пришлось переночевать в «Софийском подворье». Наутро я вышел из своего номера и остановился на площади, ошеломленный и растерянный от шума и движения большого города. В таком положении меня застали две ровенские «учительши»: Завилейская и Комарова. Они радушно поздоровались и пригласили меня пройти вместе с ними осмотреть собор, а после того позвали к себе, в номерах того же подворья, пить чай. Мне очень хотелось принять это милое приглашение, но из застенчивости я отказался, о чем очень жалел в то самое время, как отказывался. Прежде чем расстаться со мной, эти молодые дамы осмотрели меня критическим взглядом, и одна сказала:
— Слушайте. Когда приедете в Петербург, закажите себе другой костюм… Этот, знаете, для столицы не годится.
— Да-да, — подхватила другая. — Сшейте себе приличную пару… И тоже пальто. А то у вас какая-то мантилья. Теперь носят узкие, в обтяжку… И много короче.
— Шляпу можете оставить… Она идет к вашим курчавым волосам.
Они ушли, весело переговариваясь и радушно кивая мне головами. А я остался с жуткой тоской одиночества в сердце и неприятным сознанием, что мой «немодный, но простой и изящный» костюм привлекает ироническое внимание…
Следующее утро опять застигло меня в вагоне между Киевом и Курском. С вечера я как-то незаметно заснул, и теперь взгляд мой прежде всего упал на выразительную надпись на стене вагона: «Остерегайтесь воров». О том же предостерегали меня усиленно мать и дядя, и, проснувшись, я прежде всего схватился за сумку. Она была тут, но я сразу почувствовал себя окруженным вероятными заговорщиками, старающимися проникнуть в мою сокровищницу. Я сел на скамейку и оглянулся кругом «пытливо-проницательным» взглядом: конечно, я сразу угадаю, от кого именно следует ждать здесь опасности…


























