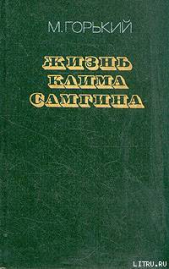Том 20. Жизнь Клима Самгина. Часть 2

Том 20. Жизнь Клима Самгина. Часть 2 читать книгу онлайн
В двадцатый том собрания сочинений вошла вторая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1926–1928 годах. После первой отдельной публикации эта часть произведения автором не редактировалась
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Именно так чувствовал Самгин: все благожелательно — луна, ветер, запахи, приглушенный полуночью шумок города и эти уютные гнезда миролюбивых потомков стрельцов, пушкарей, беглых холопов, озорных казаков, скуластой, насильно крещенной мордвы и татар, покорных судьбе.
Это — не тот город, о котором сквозь зубы говорит Иван Дронов, старается смешно писать Робинзон и пренебрежительно рассказывают люди, раздраженные неутоленным честолюбием, а может быть, так или иначе, обиженные действительностью, неблагожелательной им. Но на сей раз Клим подумал об этих-людях без раздражения, понимая, что ведь они тоже действительность, которую так благосклонно оправдывал чистенький историк.
Две-три беседы с Козловым не дали Климу ничего нового, но очень укрепили то, чем Козлов насытил его в первое посещение. Клим услышал еще несколько анекдотов о предводителях дворянства, о богатых купцах, о самодурстве и озорстве.
— Озоруют у нас от избытка сил, хвастун Садко дурит, неуемный Васька Буслаев силою кичится, — толковал старик историк, разливая по стаканам ароматный, янтарного цвета чай.
Самгин понимал, что Козлов рассуждает наивно, но слушал почтительно и молча, не чувствуя желания возражать, наслаждаясь песней, слова которой хотя и глупы, но мелодия хороша.
Раскалывая щипцами сахар на мелкие кусочки, Козлов снисходительно поучал:
— А критикуют у нас от конфуза пред Европой, от самолюбия, от неумения жить. по-русски. Господину Герцену хотелось Вольтером быть, ну и у других критиков — у каждого своя мечта. Возьмите лепешечку, на вишневом соке замешана; домохозяйка моя — неистощимой изобретательности по части печева, — талант!
Оса гудела, летая над столом, старик, следя за нею, дождался, когда она приклеилась лапками к чайной ложке, испачканной вареньем, взял ложку и обварил осу кипятком из-под крана самовара.
— Я, разумеется, не против критики, — продолжал он голосом, еще более окрепшим. — Критики у нас всегда были, и какие! Котошихин, например, князь Курбский, даже Екатерина Великая критикой не брезговала.
Он сокрушенно развел руками и чмокнул:
— Но все, знаете, как-то таинственно выходило: Котошихину даже и шведы голову отрубили, Курбский — пропал в нетях, распылился в Литве, не оставив семени своего, а Екатерина — ей бы саму себя критиковать полезно. Расскажу о ней нескромный анекдотец, скромного-то о ней ведь не расскажешь.
Анекдотец оказался пресным и был рассказан тоном снисхождения к женской слабости, а затем Козлов продолжал, все более напористо и поучительно:
— Критика — законна. Только — серебро и медь надобно чистить осторожно, а у нас металлы чистят тертым кирпичом, и это есть грубое невежество, от которого вещи страдают. Европа весьма величественно распухла и многими домыслами своими, конечно, может гордиться. Но вот, например, европейская обувь, ботинки разные, ведь они не столь удобны, как наш русский сапог, а мы тоже начали остроносые сапоги тачать, от чего нам нет никакого выигрыша, только мозоли на пальцах. Примерчик этот возьмите иносказательно.
Голосу старика благосклонно вторил шелест листьев рябины за окном и задумчивый шумок угасавшего самовара. На блестящих изразцах печки колебались узорные тени листьев, потрескивал фитиль одной из трех лампадок. Козлов передвигал по медному подносу чайной ложкой мохнатый трупик осы.
— Вот собираются в редакции местные люди: Европа, Европа! И поносительно рассказывают иногородним, то есть редактору и длинноязычной собратий его, о жизни нашего города. А душу его они не чувствуют, история города не знакома им, отчего и раздражаются.
Взглянув на Клима через очки, он строго сказал:
— Тут уж есть эдакое… неприличное, вроде как о предках и родителях бесстыдный разговор в пьяном виде с чужими, да-с! А господин Томилин и совсем ужасает меня. Совершенно как дикий черемис, — говорит что-то, а понять невозможно. И на плечах у него как будто не голова, а гнилая и горькая луковица. Робинзон — это, конечно, паяц, — бог с ним! А вот бродил тут молодой человек, Иноков, даже у меня был раза два… невозможно вообразить, на какое дело он способен!
Козлов подвинул труп осы поближе к себе, расплющил его метким ударом ложки и, загоняя под решетку самовара, тяжко вздохнул:
— Нехороши люди пошли по нашей земле! И — куда идут?
По привычке, хорошо усвоенной им, Самгин осторожно высказывал свои мнения, но на этот раз, предчувствуя, что может услышать нечто очень ценное, он сказал неопределенно, с улыбкой:
— Мечтают о политических реформах — о представительном правлении.
— Понимаю-с! — прервал его старик очень строгим восклицанием. — Да-с, о республике! И даже — о социализме, на котором сам Иисус Христос голову… то есть который и Христу, сыну бога нашего, не удался, как это доказано. А вы что думаете об этом, смею спросить?
Но раньше, чем Самгин успел найти достаточно осторожный ответ, историк сказал не своим голосом и пристукивая ложкой по ладони:
— Я же полагаю, что государю нашему необходимо придется вспомнить пример прадеда своего и жестоко показать всю силу власти, как это было показано Николаем Павловичем четырнадцатого декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года на Сенатской площади Санктпетербурга-с!
Козлов особенно отчетливо и даже предупреждающе грозно выговорил цифры, а затем, воинственно вскинув голову, выпрямился на стуле, как бы сидя верхом на коне. Его лицо хорька осунулось, стало еще острей, узоры на щеках слились в багровые пятна, а мочки ушей, вспухнув, округлились, точно ягоды вишни. Но тотчас же он, взглянув на иконы, перекрестился, обмяк и тихо сказал:
— Воздерживаюсь от гнева, однако — вызывают. Торопливо погрыз сухарь, запил чаем и обычным, крепеньким голоском своим рассказал:
— В молодости, будучи начальником конвойной команды, сопровождал я партию арестантов из Казани в Пермь, и на пути, в знойный день, один из них внезапно скончался. Так, знаете, шел-шел и вдруг падает мертв, головою в землю… как бы сраженный небесной стрелой. А человек не старый, лет сорока, с виду — здоровый, облика неприятного, даже — звериного. Осужден был на каторгу за богохульство, кощунство и подделку ассигнаций. По осмотре его котомки оказалось, что он занимался писанием небольших картинок и был в этом, насколько я понимаю, весьма искусен, что, надо полагать, и понудило его к производству фальшивых денег. Картинок у него оказалось штук пять и все на один сюжет: Микула Селянинович, мужик-богатырь, сражается тележной оглоблей со Змеем-Горынычем; змей — двуглав, одна голова в короне, другая в митре, на одной подпись — Петербург, на другой — Москва. Да-с. Изволите видеть, до чего доходят?
И, пригладив без того гладкую, серебряную голову, он вздохнул.
— Весьма опасаюсь распущенного ума! — продолжал он, глядя в окно, хотя какую-то частицу его взгляда Клим щекотно почувствовал на своем лице. — Очень верно сказано: «Уме недозрелый, плод недолгой науки». Ведь умишко наш — неблаговоспитанный кутенок, ему — извините! — все равно, где гадить — на кресле, на дорогом ковре и на престоле царском, в алтарь пустите — он и там напачкает. Он, играючи, мебель грызет, сапог, брюки рвет, в цветочных клумбах ямки роет, губитель красоты по силе глупости своей.
Но, подняв руку с вытянутым указательным пальцем, он благосклонно прибавил:
— Не отрицаю однако, что некоторым практическим умам вполне можно сказать сердечное спасибо. Я ведь только против бесплодной изобретательности разума и слепого увлечения женским его кокетством, желаньишком соблазнить нас дерзкой прелестью своей. В этом его весьма жестоко уличил писатель Гоголь, когда всенародно покаялся в горестных ошибках своих.
Сокрушенно вздохнув, старик продолжал, в тоне печали:
— Вот, тоже, возьмемте женщину: женщина у нас — отменно хороша и была бы того лучше, преферансом нашим была бы пред Европой, если б нас, мужчин, не смутили неправильные умствования о Марфе Борецкой да о царицах Елизавете и Екатерине Второй. Именно на сих примерах построено опасное предубеждение о женском равноправии, и получилось, что Европа имеет всего одну Луизу Мишель, а у нас таких Луизок — тысячи. Вы, конечно, не согласны с этим, но — подождите! Подождите до возраста более зрелого, когда природа понудит вас вить гнездо.