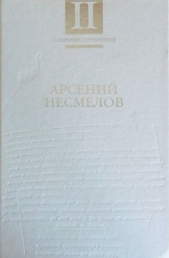Том 15. Рассказы, очерки, заметки 1921-1924

Том 15. Рассказы, очерки, заметки 1921-1924 читать книгу онлайн
В пятнадцатый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1921–1924 годах. Все они, за исключением очерка «О Михайловском», входили в предыдущие собрания сочинений.
Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. В последний раз большинство из них редактировалось писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он веско заговорил о необходимости внимательного изучения духовной жизни деревни.
— Этого не исчерпывает этнография, — нужно подойти как-то иначе, ближе, глубже. Деревня — почва, на которой мы все растем и много чертополоха, много бесполезных сорных трав. Сеять «разумное, доброе, вечное» на этой почве надо так же осторожно, как и энергично. Вот я, летом, беседовал с молодым человеком, весьма неглупым, но он серьезно убеждал меня, что деревенское кулачество — прогрессивное явление, потому что, видите ли, кулаки накопляют капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной. Если такой пропагандист попадет в деревню…
Он засмеялся.
Провожая меня, он снова пожелал мне успеха.
— Так вы думаете — я могу писать? — спросил я.
— Конечно! — воскликнул он несколько удивленно. — Ведь вы уже пишете, печатаетесь, — чего же? Захотите посоветоваться — несите рукописи, потолкуем…
Я вышел от него в бодром настроении человека, который, после жаркого дня и великой усталости, выкупался в прохладной воде лесной речки.
В.Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уважения, но — почему-то — я не ощутил к писателю симпатии, и это огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту пору учителя и наставники уже несколько тяготили меня, мне очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим человеком дружески — просто, не стесняясь ни с чем, о том, что беспощадно волновало меня. А когда я приносил материал моих впечатлений учителям, они кроили и сшивали его сообразно моде и традициям тех политико-философских форм, закройщиками и портными которых они являлись. Я чувствовал, что они совершенно искренно не могут шить и кроить иначе, но я видел, что они портят мой материал.
Недели через две, я принес Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее» и рассказа «Старуха Изергиль», только что написанного мною. В.Г. не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку:
«Приходите вечером поговорить. Вл. Кор.».
Он встретил меня на лестнице с топором в руке.
— Не думайте, что это мое орудие критики, — сказал он, потрясая топором, — нет, это я полки в чулане устраивал. Но — некоторое усекновение главы ожидает вас…
Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись и, как от хорошей, здоровой русской бабы, от него пахло свеже выпеченным хлебом.
— Всю ночь — писал, а после обеда уснул, проснулся — чувствую: надо повозиться!
Он был непохож на человека, которого я видел две недели тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника и учителя; передо мной был хороший человек, дружески внимательно настроенный ко всему миру.
— Ну-с, — начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему, — прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе, да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской, — я бы сказал барышне: — недурно, а — все-таки выходите замуж. Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки, — это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?
— Еще в Тифлисе…
— То-то! У вас тут сквозит пессимизм. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви — болезнь возраста, это теория наиболее противоречивая практике, чем все иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что!
Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно:
— Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они — оригинальны, это я вам напечатаю. «Старуха» написана лучше, серьезнее, но — все-таки и снова — аллегория. Не доведут они вас до добра. Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!
Он задумался, перелистывая рукопись:
— Странная какая-то вещь! Это — романтизм, а он — давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист. В частности, там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным, — нет, не так?
— Возможно.
— Ага! вот видите! Я же говорю: мы кое-что знаем о вас. Но — это недопустимо, личное — изгоняйте! Разумею — узко личное.
Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза, — я смотрел на него все с большим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено.
— Слушайте, — можно говорить с вами запросто? Знаю я вас — мало, слышу о вас — много, и кое-что вижу сам. Плохо вы живете. Не туда попали. По-моему вам надо уехать отсюда или жениться на хорошей, не глупой девушке.
— Но я женат.
— Вот это и плохо.
— Я сказал, что не могу говорить на эту тему.
— Ну, извините!
Он начал шутить, потом, вдруг озабоченно спросил:
— Да! Вы слышали, что Ромась арестован! Давно? Вот как. Я только вчера узнал. Где? В Смоленске. Что он делал там?
На квартире Ромася была арестована типография «народоправцев», организованная им.
— Неугомонный человек, — задумчиво сказал В.Г. — Теперь — снова сошлют его куда-нибудь. Что он — здоров? Здоровеннейший мужик был…
Он вздохнул, повел широкими плечами.
— Нет, все это — не то! Этим путем ничего не достигнешь. Астыревское дело — хороший урок, он говорит нам: беритесь за черную, легальную работу, за будничное культурное дело. Самодержавие — больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать, — мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток легальной работы.
Он долго говорил на эту тему, и чувствовалось, что говорит он о своей живой вере.
Пришла Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился и ушел с хорошим сердцем.
Известно, что в провинции живешь как под стеклянным колпаком, — все знают о тебе, знают, о чем ты думал в среду около двух часов и в субботу перед всенощной; знают тайные намерения твои и очень сердятся, если ты не оправдываешь пророческих догадок и предвидений людей.
Конечно, весь город узнал, что Короленко благосклонен ко мне, и я принужден был выслушать не мало советов такого рода:
— Берегитесь, собьет вас с толку эта компания поумневших.
Подразумевался, популярный в то время, рассказ П. Д. Боборыкина «Поумнел», — о революционере, который взял легальную работу в земстве, после чего он потерял дождевой зонтик и его бросила жена.
— Вы — демократ, вам нечего учиться у генералов, вы — сын народа! — внушали мне.
Но я уже давно чувствовал себя пасынком народа; это чувство, от времени, усиливалось и, как я уже говорил, сами народопоклонники казались мне такими же пасынками, как я. Когда я указывал на это — мне кричали:
— Вот видите, вы уже заразились!
Группа студентов Ярославского лицея пригласила меня на пирушку, я что-то читал им, они подливали в мой стакан пива — водку, стараясь делать это незаметно для меня. Я видел их маленькие хитрости, понимал, что они хотят «в дребезги» напоить меня, но не мог понять — зачем это нужно им? Один из них, самовлюбленный и чахоточный, убеждал меня:
— Главное — пошлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю эту дребедень! Пишите — просто! Долой идеи…
Невыносимо надоедали мне все эти советы.
В.Г. Короленко, как всякий заметный человек, подвергался разнообразному воздействию обывателей. Одни, искренно ценя его внимательное отношение к человеку, пытались вовлечь писателя в свои личные, мелкие дрязги, другие избрали его объектом для испытания легкой клеветой. Моим знакомым не очень нравились его рассказы.
— Этот ваш Короленко, кажется, даже в Бога верует, — говорили мне.
Почему-то особенно не понравился рассказ «За иконой»: находили, что это — «этнография», не более.
— Так писал еще Павел Якушкин.
Утверждали, что характер героя-сапожника, — взят из «Нравов Растеряевой улицы» Г. Успенского. В общем критики напоминали мне одного воронежского иеремонаха, который, выслушав подробный рассказ о путешествии Миклухи-Маклая, недоуменно и сердито спросил:
— Позвольте! вы сказали: он привез в Россию папуаса. Но — зачем же, именно, папуаса? И — почему — только одного?