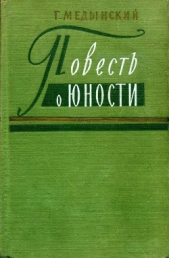Записки жильца

Записки жильца читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дикий виноград уже нависал живым зелено-рыжим шатром над колодцем, как будто перенесенным сюда из Аравийской пустыни, трава росла между широкими серыми плитами, хмелем дышал ветерок с невидимого, но такого близкого моря и струился между прутьями ржавой ограды, отделявшей двор синагоги от шумной улицы.
Да, это были хмельные дни, все было хмельным: и вино на праздничном столе, и хрупкий, уже не духовный, а обмирщенный звон колоколов, и первый, еще не пронзительный, но уже всепокоряющий запах акаций, без приторного соблазна, молодой и невинный, и небо такой синевы, что хотелось и смеяться, и плакать, и сладко молиться чему-то неведомому, но так властно зовущему, и стремительное обновление могучих старцев - каштанов, и весеннее солнце, по-летнему горячее под тентами меховых магазинов, и музыка "Марсельезы".
Эта музыка опьяняет самого немузыкального человека. Есть и другие гимны свободы - "Интернационал", "Варшавянка". Это гимны суровой, трагической, полной самоотверженности борьбы. А "Марсельеза" - это счастливый хлеб свободы, хмель свободы, запах ее цветов, ее солнце, ее праздничное, всечеловеческое ликование.
В южных городах, когда приходит лето, вся жизнь переносится на улицу, но теперь это наступило весной, уж такая была весна. Между тротуаром и мостовой, на широкой светло-зеленой кромке, под каштаном или дубом устанавливался стол для граммофона или игры в лото. Вокруг стола быстро возникала толпа, и как-то незаметно оказывались в ней французские моряки. Они пели со всеми, обнимали визжащих девушек, вмешивались в игру, отчаянно споря, и сами играли на выкидку. Так было, и - хочешь не хочешь, а в сознании города в одно слились и необычно теплая весна, и три Пасхи, и улицы, полные нарядной толпы, ветра, солнца, безумно веселых, карнавальных звуков апрельского моря, и французы. А впрочем, быть может, французы мало чем отличались от немцев, и все это наделал вакхический хмель "Марсельезы".
Во всяком случае, не без причины именно в это время в наш город устремились приезжие из голодного Петрограда. Думается, что их тоже манил не только хлеб, но и хмель "Марсельезы". Они добирались на крышах вагонов, в теплушках, их карманы были набиты противоречивыми удостоверениями: разные попутные режимы подтверждали их благонадежность.
Приехал из Петрограда и Вольф Сосновик, родной племянник Антона Васильевича. Конечно, и речи не могло быть о том, чтобы племянник поселился в просторном доме дяди и тетки, да еще с беременной женой и девятилетней дочерью-калекой. Что общего было у этого зубного техника-еврея и у почтенного Антона Васильевича и Прасковьи Антоновны, никогда раньше не слыхавшей о нем? Да и вряд ли приютила бы у себя Прасковья Антоновна и своих собственных родственников. Разве это было удобно в таком богатом заведении, которое посещают дамы из самого высшего бомонда?
В нашем городе во всех магазинах имелись задние комнаты, нередко полутемные, освещаемые либо сверху фонарем, либо стеклянной дверью, смотревшей на двор. Там жили хозяева победнее, ремесленники, мелкие лавочники, а более зажиточные снимали отдельные квартиры, и тогда в задних комнатах устраивались склады, мастерские, а то ночевали там холостые подмастерья или приказчики.
Была такая комната и позади магазина Чемадуровой, с окном, выходящим в парадный ход самой владелицы дома, с подполом (до Чемадуровой магазин принадлежал виноторговцу), и там-то поселилась семья приезжих Сосновиков: Чемадурова приютила ее по просьбе Антона Васильевича.
Одни мужчины нравятся только мужчинам, другие - и мужчинам и женщинам, третьи - только женщинам. Вольф Сосновик относился к третьему типу. Женщины любили его, потому что чувствовали, что он любит их, и только их. Его круглые глаза, щегольские, чуть рыжеватые усы, постоянная веселость, здоровая, хорошо одетая плоть сулили им одну лишь радость, легкость жизни без ее нудных забот, семейных сцен, болезней, безденежья. Такие мужчины обычно очень плохие отцы и мужья, но их обожают и жены и дети. Люди они большей частью пустые, но среди женщин, даже некрасивых, они умнеют, по-настоящему умнеют, обмана здесь нет.
Застенчивая Фрида Сосновик беззаветно любила своего мужа. Она была умнее Вольфа и понимала это, но свой ум она считала слабостью, а пустоту Вольфа - силой. Она не хотела уезжать из Петрограда, у нее были дурные предчувствия, но разве она могла пойти наперекор Вольфу? А он рвался на юг, к французам.
Безропотно переносила Фрида тяжесть дороги, долгой, иногда опасной, духоту зеленого вагона (ей, беспомощной, с раздутым животом, приходилось особенно трудно), безропотно переносила жизнь в сырой, полутемной комнате.
Она не любила свое временное жилье со ржавым засовом на дверях, ведущих в магазин, окно с решеткой, гул шагов и стук дверей парадного хода, куда выходило это окно, и большую часть времени проводила на дворе. На дворе она и готовила. Над шведской плитой поднимался, властно распространяясь, запах жидкого гусиного сала, фаршированной рыбы, хрена - дразнящий, вкусный запах еды изгнания.
Еля, ее девочка, страдала детским параличом. Ее ножки были одеты в гипсовые бандажи, коричневые, с блестящими крючочками для шнурков. Она почти всегда сидела на дворе рядом с матерью на низкой складной скамеечке с парусиновым сиденьем, читала или мыла куклу в игрушечном корыте. Эта начитанная девятилетняя девочка почему-то любила возиться с куклой. Больно было на них смотреть, когда они шли к дворовому крану, мать - с ведром, Еля - с красным в синюю каемку ведерком, шли переваливаясь, слабые, одна - с восьмимесячным животом, другая - на кривых гипсовых ножках.
В доме у них был достаток. Говорили, что зубной техник вывез из Петрограда золото, что он ходит на черную биржу в наш Пале-Рояль, что скоро эта семья переедет в хорошую квартиру. По словам Вольфа, в Петрограде они жили отлично. У него было нечто вроде чиновничьей шинели с пелеринкой (как у Гоголя, а, не правда ли?), и он рассказывал, блистая круглыми глазами и золотом зубов, как, бывало, выйдет он, Вольф Сосновик (такой, каким вы меня видите!), на Невский, кликнет ваньку, скажет: "Поди!" - и полетит, а кругом снег, вежливые городовые, газовые фонари... Миша Лоренц слушал его с восторгом, но однажды Вольф вынул при нем свои золотые зубы и опустил их в граненый стаканчик. Миша испугался, в этом было что-то нечеловеческое, и долгое время он с пугливым трепетом смотрел на пустого болтуна Вольфа Сосновика.
Мишу и Володю Варути, не находивших себе товарищей среди соседских забияк, тянуло к несчастной, всегда спокойно-веселой девочке с таким странным, неюжным произношением. Иногда они брали ее под руки и выводили гулять в Николаевский сад, осторожно переходя мостовую, и женщины умиленно смотрели на них, а некоторые плакали чистыми, освежающими душу слезами. А дворничиха Матрена Терентьевна, люто ненавидевшая, как нам почему-то казалось, нашу буйную детвору, наставительно восторгалась:
- От хороши хлопчики, трясця их матери! И жидивочка хороша, така разумна, троянда моя! Оченята, як черешня, а говорить, як птаха, як та кацапка!
Дети садились на круглый парапет из искусственного гранита с сиреневыми искрами, сиреневыми казались искры фонтана - влажные песчинки заката, сиреневым было платье Ели. Лоренц уже забыл, о чем они говорили тогда - о приключениях доисторического мальчика? О Летнем саде или о Павловске, куда Еля однажды поехала с родителями? - но помнит, что им было весело, не хотелось идти домой ужинать. Помнит он (разве можно его забыть?) и тот ужасный день.
Накануне ушли неожиданно из города французы. Ждали не то большевиков, не то петлюровцев. Город привык к быстрой и частой смене властей. В этой смене была и надежда, и некоторые долго не могли избавиться от обольщающей привычки. Например, даже в двадцать восьмом году подшучивали над слесарем Цыбульским - он будто бы, просыпаясь от грохота будильника, рано утром спрашивал жену: "Рашель, они еще не ушли?"
В ту пору, как никогда, стало ясно, что все человечество - это жители, от слова "жить", а власти - нечто отличающееся от жизни, мешающее жизни, потустороннее: оно врывается в наш мир, обладая иными измерениями, иными законами притяжения. Вероятно, именно в ту пору местоимение "они" впервые приобрело новый, отчужденный смысл. Шли годы, люди рождались, старились, умирали, но "они" были бессмертны, как злые духи. "Они" устраивали погромы, облавы, пытали в застенках контрразведки, производили реквизиции, изъятия излишков, сажали в тюрьмы, высылали на Соловки, выдавали продовольственные карточки, объявляли о всеобщем обязательном обучении, шли в поход на Рим, выбрасывали на прилавки мясо, галоши, чайники, бомбили, оккупировали города и деревни, душили в газовых камерах, загоняли людей в гетто, временно отступали, выпускали облигации займов, восстанавливали разрушенное войной хозяйство - эти разноликие, разноязычные, рожденные среди людей, похожие на людей, внутри себя нередко враждующие, но одинаково ненавистные жителям "они".