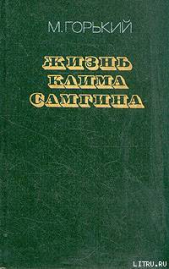Том 20. Жизнь Клима Самгина. Часть 2

Том 20. Жизнь Клима Самгина. Часть 2 читать книгу онлайн
В двадцатый том собрания сочинений вошла вторая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1926–1928 годах. После первой отдельной публикации эта часть произведения автором не редактировалась
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отдохнувшие лошади пошли бойко; жердь, заменяя колесо, чертила землю, возница вел лошадей, покрикивая:
— Эхма, уточки, куропаточки!
Самгин шагал в стороне нахмурясь, присматриваясь, как по деревне бегают люди с мешками в руках, кричат друг на друга, столбом стоит среди улицы бородатый сектант Ермаков. Когда вошли в деревню, возница, сорвав шапку с головы, закричал:
— Эй, Василий Митрич!
Сразу стало тише, люди как будто испугались, замерли на минуту, глядя на лошадей и Самгина, потом осторожно начали подходить к нему.
— Дали ссуду-то? — радостно спрашивал возница, а перед ним уже подпрыгивал красненький мужичок, торопливо спрашивая:,
— Ты — кого привез? Ты — куда его?
К Самгину подошли двое: печник, коренастый, с каменным лицом, и черный человек, похожий на цыгана. Печник смотрел таким тяжелым, отталкивающим взглядом, что Самгин невольно подался назад и встал за бричку. Возница и черный человек, взяв лошадей под уздцы, повели их куда-то в сторону, мужичонка подскочил к Самгину, подсучивая разорванный рукав рубахи, мотаясь, как волчок, который уже устал вертеться.
— Куда едете? В какой должности? — пугливо спрашивал он; печник поймал его за плечо и отшвырнул прочь, как мальчишку, а когда мужичок растянулся на земле, сказал ему:
— Отойди прочь, Иван!
Он выговорил эти три слова так, как будто они стоили ему большого усилия. Его лицо изъедено оспой, поэтому оно и было шероховатым, точно камень, из-под выщипанных бровей угрюмо смотрели синеватые глаза. Стоял он, широко раздвинув ноги, засунув большие пальцы рук за пояс, выпятив обширный живот, молча двигал челюстью, и редкая, толстоволосая борода его неприятно шевелилась. Самгин чувствовал, что этот человек не знает, что ему делать с ним, и нельзя было представить, что он сделает в следующую минуту. Подошло с десяток мужиков, все суровые, прихмуренные.
— Вы — староста? — спросил Самгин, думая, что в следующий раз он возьмет револьвер.
— Староста арестованный, — сказал один из мужиков; печник посмотрел на него, плюнул под ноги себе и сказал:
— Что врешь? Староста у нас захворал. В городе лежит.
Беременная баба, проходя мимо, взмахнула мешком и проворчала:
— Рады, галманы, случаю… Кончали бы скорее.
— А вам — зачем старосту? — спросил печник. — Пачпорт и я могу посмотреть. Грамотный. Наказано — смотреть пачпорта у проходящих, проезжающих, — говорил он, думая явно о чем-то другом. — Вы — от земства, что ли, едете?
— Я — адвокат.,
— Адвокат, — повторил печник, поглядев на мужиков, — кто-то из них проворчал:
— Стало быть: и нашим и вашим.
— Ну, что ж. Яишну кушать желаете? — спросил печник, подмигнув мужикам, и почти весело сказал: — Господа обязательно яишну едят.
Он вынул из кармана кожаный кисет, трубку, зачерпнул ею табаку и стал приминать его пальцем. Настроенный тревожно, Самгин вдруг спросил:
— Вы чего хотите от меня?
— Мы? — удивился печник. — А — чего нам хотеть? Мы — дома. Вот — заехал к нам по нужде человек, мы — глядим.
Сморщив лицо, он раскурил трубку, подвинулся ближе к Самгину и грубо сказал:
— Идите.
— Куда?
— Туда, — печник ткнул трубкой влево, на группу ветел, откуда доносились вздохи мехов, стук молотка и сиплый голос:
— Дуй, дуй…
На перекладине станка для ковки лошадей сидел возница; обняв стойку, болтая ногами, он что-то рассказывал кузнецу. Печник подошел к нему и скомандовал:
— Подь сюда, Косарев!
Отвел его в сторону шагов на пять, там они поговорили о чем-то, затем кузнец спросил:
— Не врешь? Перекрестись. И пригрозил:
— Ну, гляди же!
Кузнец начал яростно работать; было что-то припадочное в его ненужной беготне от наковальни к пылающему горну, неистовое в его резких движениях.
— Дуй, бей, давай углей, — сипло кричал он, повертываясь в углах. У мехов раскачивалась, точно богу молясь, растрепанная баба неопределенного возраста, с неясным, под копотью, лицом.
— Живее, Вася, не задерживай барина, — сказал печник, отходя прочь от кузницы.
— Злой работник, а? — спросил Косарев, подходя к Самгину. — Еще теперь его чахотка ест, а раньше он был — не ходи мимо! Баба, сестра его, дурочкой родилась.
Не переставая говорить, он вынул из-за пазухи краюху ржаного хлеба, подул на нее, погладил рукою корку и снова любовно спрятал:
— Заметно, господин, что дураков прибывает; тут, кругом, в каждой деревне два, три дуренка есть. Одни говорят: это от слабости жизни, другие считают урожай дураков приметой на счастье.
— Эй, Косарев, помогай! — крикнул кузнец. Ветер нагнал множество весенних облаков, около солнца они были забавно кудрявы, точно парики вельмож восемнадцатого века. По улице воровато бегали с мешками на плечах мужики и бабы, сновали дети, точно шашки, выброшенные из ящика. Лысый старик, с козлиной бородой на кадыке, проходя мимо Самгина, сказал:
— Черти носят…
Самгин отошел подальше от кузницы, спрашивая себя: боится он или не боится мужиков? Как будто не боялся, но чувствовал свою беззащитность и унижение пред откровенной враждебностью печника.
«Это они, конечно, потому, что я — свидетель, видел, как они сорвали замок и разграбили хлеб».
Он лениво поискал: какая статья «Уложения о наказаниях» карает этот «мирской» поступок? Статьи — не нашел, да и думать о ней не хотелось, одолевали другие мысли:
«Печник, конечно, из таких же анархистов по натуре, как грузчик, казак…»
— Готово, — с радостью объявил Косарев и усердно начал хвалить кузнеца: — Крепче новой стала ось; ну и мастер!
А мастер, встряхнув на ладони деньги, сердито посоветовал Самгину:
— Прибавьте на бутылку казенки. Ну, вот, — езжай, Косарев!
Лошади бойко побежали, и на улице стало тише. Мужики, бабы, встречая и провожая бричку косыми взглядами, молча, нехотя кланялись Косареву, который, размахивая кнутом, весело выкрикивал имена знакомых, поощрял лошадей:
— Эх, птички-и!
Но, выехав за околицу, обернулся к седоку и сказал:
— Сволочь народ!
Это было так неожиданно, что Самгин не сразу спросил:
— Почему?
— Да — как же, — обиженно заговорил Косарев. — Али это порядок: хлеб воровать? Нет, господин, я своевольства не признаю. Конечно: и есть — надо, и сеять — пора. Ну, все-таки: начальство-то знает что-нибудь али — не знает?
Он погрозил кнутом вдаль, в синеватый сумрак вечера и продолжал вдохновенно:
— Ежели вы докладать будете про этот грабеж, так самый главный у них — печник. Потом этот, в красной рубахе. Мишка Вавилов, ну и кузнец тоже. Мосеевы братья… Вам бы, для памяти, записать фамилии ихние, — как думаете?
— Перестань, — строго сказал Самгин. — Меня это не касается.
Он рассердился, но не находил достаточно веских слов, чтоб устыдить возницу.
— Разве тебе не стыдно доносить на своих?
— Да я — не здешний…
— Все равно. Это — нехорошо.
— Уж чего хорошего, — согласился Косарев. — Али это — жизнь?
— Удивляюсь я, — продолжал Самгин, но возница прервал его:
— Еще бы не удивиться! Я сам, как увидал, чего они делают, — испугался.
— Довольно! — крикнул Самгин.
— Как желаете, — сказал Косарев, вздохнув, уселся на облучке покрепче и, размахивая кнутом над крупами лошадей, жалобно прибавил: — Вы сами видели, господин, я тут посторонний человек. Но, но, яростные! — крикнул он. Помолчав минуту, сообщил: — Ночью — дождик будет, — и, как черепаха, спрятал голову в плечи.
«Народ, — возмущенно думал Самгин. — Бунтовщики», — иронически думал он, но думалось неохотно и только словами, а возмущение, ирония, вспыхнув, исчезали так же быстро, как отблески молний на горизонте. Там, на востоке, поднимались тяжко синие тучи, отемняя серую полосу дороги, и, когда лошади пробегали мимо одиноких деревьев, казалось, что с голых веток сыплется темная пыль. Синеватая скука холодного вечера настраивала Самгина лирически и жалобно. Жалко было себя, — человека, который не хотел бы, но принужден видеть и слышать неприятное и непонятное. Зачем ему эти поля, мужики и вообще все то, что возбуждает бесконечные, бесплодные думы, в которых так легко исчезает сознание внутренней свободы и права жить по своим законам, теряется ощущение своей самости, оригинальности и думаешь как бы тенями чужих мыслей? Почему на нем лежит обязанность быть умником, все знать, обо всем говорить, служить эоловой арфой, — кому служить?