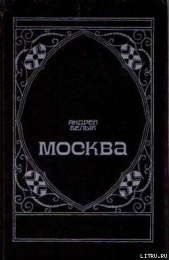Том 4. Маски

Том 4. Маски читать книгу онлайн
Андрей Белый (1880–1934) вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
В четвертый том Собрания сочинений включен роман «Маски» — последняя из задуманных писателем трех частей единого произведения о Москве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отпечаток в глазу дольше держится в миг потрясенья; светящийся контур от ели, торчащей вершиною в небе, когда перебросите глаз, точно с ели снятой, вырезается в небе; в минуты волнения — контур отчетливей.
Это доказано Гете.
Мандро, потрясенный все эти последние дни до развала мозгов и составом, увидел вокруг головы — световую, вторую, огромную, ширившуюся; прижатый к стене, он закрылся рукою; сквозь пальцы увидел: стен не было; был — дым из глаз (очки черные портили зрение); и, как оптическая аберрация, вляпанная в горизонт: фотосфера — огромной, безлицой главы, напечатанной, как на пластинке, —
— из дикой вселенной, в тот миг просекающей: нашу вселенную!
В корне взять
В то же мгновение локоть толкнул со спины.
И — профессор, приземистый, крепенький, быстренький, видясь заплатой, пылинкою каждой, морщинкою каждой, прорявкал:
— Ах — да-с: виноват-с!
И пронесся: на двери в двенадцатый номер; на номер двенадцатый выпятил нос; и отчетливо тяпнул:
— А-с?
— Рядом! —
«Дом» — точно пощечиной эхо отляпало в ухо!
Профессор, увидев Мандро и его не узнав, подсигнул:
— Извините, пожалуйста, — это…?
И видя открытую дверь, трижды стукнув, — в тринадцатый: пуст; на Мандро повернулся.
В двенадцатом тоже услышали; нос показался оттуда.
Мандро, за профессором в номер влетев, ключом щелкнул; им в спину шесть пяток прощелкало: по коридору, — к тринадцатому.
И тут скинулись, точно наушники, уши: с ушей; катарактами спали два глаза: с глаз; а обертоны, слагавшие звук диких воплей, изведанный, странно кивнули из «в корне взять», и «извините, пожалуйста», как роковое, ужасное: —
— 3-д-раа-в-с-т-в-у-й!
Видно, в спине у Мандро скрыто память сидела; нашептывая — в тридцать месяцев —
— о, —
— капли красные: капали!
Тут и орнуло, с Мандро: из Мандро:
— А!
— Узнал!
Голос недр:
— Поднимите мне веко!
И тут же, — как бы вперерез, — как навстречу, — открытие, точно не нашей вселенной: на этой планете лишь двое тот опыт несут; стало быть: только двое друг другу сумеют сказать нечто новое — о таком опыте; о, только двое, включенные в эту тюрьму, понимают друг друга; и — стало быть, — тянутся, точно железо, к магниту меж ними!
О, в невыносимости наглой почти до преступности встрече, ломающей все загражденья морали, возможной в условиях двух сумасшествий, —
— у двух сумасшедших, —
— вскричало в Мандро точно горло гиганта, уже безголового, сбрасывая черепную коробку, скатившуюся, как парик, им повешенный на канделябрину:
— Вот… собеседник — пришел!
В токе молнии, рвавшей палимые нервы с ушей и до пяток в одну миллионную долю секунды, мелькнуло: и трясом, и перескаканьем с предмета к предмету: — парик, челюсть и бриллиантин; а за ширмой, с постели, — «дессу» де-Лебрейльки!
И — как два потока, два ветра: сквозь ветры.
Один поток: как расширение газов, сорвавшее череп, как клапан котла, — расширенье в пределы, где нет притяжений, куда не додернуться гостю железному.
Другой поток: удар болида по черепу: из бездны звездной ядра с распахнувшейся дверью кабины, откуда профессор Коробкин с «пожалуйте-с, милости просим» — выскакивает; а Мандро на него головную дыру разевая, как широкоротая рыба, на берегу бьющаяся и в задохе просящая, чтобы ее в воду бросили.
Так запросилось в Мандро из «мандры» что-то с ним на словах, своих собственных, бросивши на берегу смрадный труп, по воде —
— на словах —
— побежать —
— с этим: к этому!
Только ему, только это в пригоршне снести; и в пригоршню принять из ладони —
— то, —
— что этот даст!
И ольными ногами, с подкидом и топом почти что копыт, перебросилось к двери в двенадцатый номер, чтоб выбросить дверь, вырвать ключ, от Лебрейль, им замкнуться: от мира.
— Секундочку… я…
«Щелк» —
— остались в кабине, закупоренной герметически:
— тронулись —
— в сон о кабине!
Профессор
Профессор влетел такой маленький, быстренький, в шаг тяжелящих мехах, не сняв шубы и шапки не бросивши, ерзая глазками мимо Мандро и набречивая часовою цепочкою.
Остановился, как будто слетая с себя самого, на себя самого, и прислушивался: сбросив камень с вершины, не видя паденья, прислушаются; и — звук: в дальней расщелине!
К столику подбежал, точно поп к алтарю, на котором он будет служить; усы вглядчиво дернулись, точно на знаки ужасного культа, когда, оробев, тронул челюсть; и — на канделябре неловко поправил раскосо висящий парик.
Только тут на Мандро дернул глазом, как вор уличенный, себя прибодряющий:
— Я, говоря рационально, — едва к вам попал.
Своим глазом внырнул он в глаза, чтоб по нервам, под череп, попасть и там заново что-то расставить: в спехах!
— И не будем касаться подробностей!
Сел, глядя в руку, как будто имея в ней знак неизвестности.
Труп, перетянутый синелицый, стоял перед ним в запыленной визитке; он острые ребра и красные десна показывал.
Точно кикимора: —
— мог бы теперь он пугать, как ворон, гимназисточек; —
— прежде: —
— затянутый в черный сюртук, уважаемый всеми, и даже любимый, влетал он в передние, дымясь бакенбардой, к груди прижимая цилиндр, перебрасывая на ходу —
— паре рук: пару лайковую!
Свой протреп пропыленный обдернув, затылочной шишкой и пяткой запрыгал: он чувствовал, что этот знак, ставший фактом совместного их заключения здесь, не иллюзия, а стены эти трясущая быль.
Коли так, предстоящие (а — предстоял разговор) — уже прошлое: сказано ими друг другу из бредов (и бредом отвечено) все.
Зачесал на профессора, выкинув руки и бороду, как бы имея принять неизвестность.
И — сел.
Но профессор еще подбирал выраженья: была морготня под очками; была ужасающая тишина: — эфиопская жуть в этой морде разбитого сфинкса!
Но глаз разгорался, как дальний костер: он с собою самим говорил.
Шебуршанье старух
Точно лоцман, ведущий сквозь мели речной пароход и не верящий береговым очертаньям, вытверживал он в голове план беседы, изученный твердо, — в ночные часы, где все это давно переохано, перескрежетано ржавой пружиной постели.
Как перетащить этот плечи ломающий груз?
Миг — пришел: говоря рационально, — на камне по водам спускается, зная, что миг колебания, неосторожное слово, беспомощный морг — камень каменной массою ставши — ко дну пойдет!
Забараракали двери, ведущие в номер двенадцатый-пестрою рожей свисавшая ткань, закрывавшая двери, гримасничала, склабясь складками; черными кольцами, точно глазами, напучились фоны обой; и глаза — ненавидели их
— Уврирэ ву? [126]
— Прошу вас открыть!
— Дело в том, что…
— Больному мешаете…
— Кто вы такой?
Это — бохнуло, бахнуло, квакнуло дверью; стояло за дверью; и там восемью сапогами шарчило; ходила, как клык, перламутровогранная ручка.
О, не задерживать пропиравшее прошлое! Дверь — только драночка; дверной замок — только бантик! Вот-вот, разорвав настоящее, — черное скопище — вломится!
— Ки? [127]
— Д'у? [128]
И как насекомое, пяткой раздавленное, прилипает к сиденью, так он, Домардэн, в него влип, лишь отмахиваясь волосатой рукою от двери, толкаясь от двери к профессору клином волос и затылочной шишкой, другою рукой умоляя профессора не отзываться: есть всякие звуки; лицо прятая в грудь, угрызаяся, точно бесчинство, пытавшееся проломиться сюда, — его собственный хвост.
И прислушивались, как слабели нахальные трески, сменясь шебуршаньем старух; одними глазами светящимися, а не ртом, стал рассказывать о пережитых им ужасах.