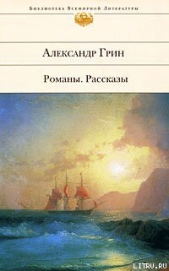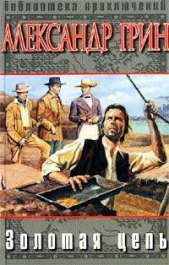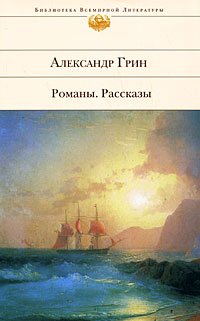Том 4. Золотая цепь. Рассказы

Том 4. Золотая цепь. Рассказы читать книгу онлайн
Александр Грин создал в своих книгах чарующий мир недостижимой мечты. На страницах его романов и рассказов воспевается любовь к труду, природе и человеку. Здесь живут своей жизнью выдуманные писателем города; фрегаты и бригантины рассекают волны; а смелые мореплаватели и путешественники преодолевают все препятствия наперекор штормам.
В четвертый том собрания сочинений вошли роман «Золотая цепь» и рассказы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, — сказал я, смеясь, — Гриньо, выкладывайте ваше каре! Он перевернул карты, пристукнув кистью руки, так что туз отлетел в сторону. Но там их было еще три — каре из тузов, вот что было в его руках! Бешеный рев покрыл это движение, яростный взрыв облегчения со стороны поставивших на Гриньо. Казалось, вихрь разметал толпу, она смешалась и переместилась с быстротой нападения. Ронкур горестно побледнел, я видел в его изящном лице истинное, большое горе. Почти никогда не побивают такой карты. Он знал мои денежные дела, поэтому, спокойно достав чековую книжку, спросил вполголоса:
— Вам сколько, Сидней?
— Вы ошиблись, — сказал я, показывая свои пять с улыбающимся чертом и раскладывая их одна к одной. — Гриньо, нравится вам этот джентльмен?
Момент не поддается изображению. Я не слышал криков и воплей, так как наслаждался бесконечно выражением лица опешившего мулата.
— Ваша… — сказал он сквозь звуки, напоминающие вой. Затем он откинулся, глаза его закатились… он был в обмороке. Пока его выносили, крупье, сосчитав деньги, передал их мне, заметив, что не хватает десяти тысяч. Он вызвался навести справки и ушел, я же разговаривал с Ронкуром, окруженный множеством добровольных рабов, этих щегольски одетых парий каждого крупного притона, льнущих к золотой пыли.
Меж тем вернулся крупье, и я прочитал залитую вином записку Гриньо: «Немного денег я пришлю завтра, — писал он, — но полностью у меня не хватит. Но я пришлю, в расчет ваш, новую машину, С.С. 77–7, я недавно купил ее. Если хотите. В противном случае вам придется ждать, пока дьявол придет ко мне».
— Что с вами? — спросил Ронкур, видя, что я встал. Я был против зеркала и, посмотрев в него, понял вопрос. Но мне было совершенно все равно, что он подумает обо мне. От моих ног медленно, с силой отяжеления, поднялся глубокий, смертельный холод. Возбуждение азарта исчезло. Я снова посмотрел на записку, спрашивая себя, почему Гриньо вздумал написать номер? Ронкур, еще раз внимательно взглянув на меня, взял записку.
— Ну, что же? — сказал он. — Теперь ясно, что вы излечитесь от своего страшного предубеждения, — сама судьба посылает вам красивый и быстрый экипаж.
— Как вы думаете, почему он написал номер?
— Машинально, — сказал Ронкур.
— В конце концов, я думаю то же. Хотите, мы пустим его в пропасть с горы?
— Но почему?
— Мне кажется, что так нужно, — сказал я, овладевая собой. В тот вечер владели мной страшные силы — мысли и желания сливались неразделимо.
— Смотрите, что это? Все повалили, бегут. — Ронкур взял меня под руку. — Посмотрим, где происшествие.
Действительно, зала вокруг пустела. Многие оставались, но многие, перекинувшись парой слов, возводили брови и быстро исчезали в голубом дыме сверкающей анфилады дверей. Я шагнул было за Ронкуром, но случилось, что любопытство наше было удовлетворено немедленно; три завсегдатая, издали махая руками, прокричали навстречу;
— Джокер убил Гриньо! Он умер от кровоизлияния в мозг!
— Как!? — сказал я. Противно некоторому возбуждению, поднявшемуся при этом известии, — оно холодно повернулось во мне; оно подействовало значительно слабее, чем записка с цифрой — такой многозначительной, такой глухой, молчащей и говорящей на языке вещей, нам недоступном, — я с ужасом заметил, что болтаю совершенный вздор, смеясь и отвечая невпопад тем, кто окружал меня в эту минуту. Меж тем, трагическая гримаса обошла залы, на мгновение смутив суеверных и тех, у кого не совсем умерло сердце, после чего все стали по-прежнему отчетливо слышать оркестр, и движение восстановилось. Смеясь проходили пары. Рой женщин, окружив толстяка, масляно плывущего среди их назойливого цветника, улыбался так невинно, как если бы резвился в раю.
Видя, что я до крайности возбужден, и по-своему понимая мое состояние, Ронкур не удерживал меня, когда я направился к выходу. Я пожелал ему скорой удачи. Он остался за баккара.
В моем состоянии была черная, косая черта, вызванная запиской мулата. Эта черта резко пересекала пылающее поле моего возбуждения, — как ни странно, как ни противно моему изобретению, неожиданное богатство, казалось, не только приближает меня к Корриде, но ставит рядом с ней. Разумеется, такое вредное впечатление коренилось в собственной натуре ее. Она жила скверно, то есть была полным, послушным рабом вещей, окружавших ее. Эти вещи были: туалетными принадлежностями, экипажами, автомобилями, наркотиками, зеркалами и драгоценностями. Ее разговор включал наименования множества бесполезных и даже вредных вещей, как будто, отняв эту основу ее жизни, ей не к чему было обратить взгляд. Из развлечений она более всего любила выставки, хотя бы картин, так как картина, безусловно, была в ее глазах прежде всего — вещью. Она не любила растений, птиц и животных, и даже ее любимым чтением были романы Гюисманса, злоупотребляющего предметами, и романы детективные, где по самому ходу действия оно неизбежно отстаивается на предметах неодушевленных. Ее день был великолепным образцом пущенной в ход машины, и я уверен, что ее сны составлялись преимущественно из разных вещей. Торговаться на аукционе было для нее наслаждением.
При всем том, я любил эту женщину. В Аламбо она появилась недавно; вначале приехал ее брат, открывший деловую контору; затем приехала она, и я познакомился с ней, благодаря Ронкуру, имевшему какие-то дела с ее братом. И около этого пустого существования легла, свернувшись кольцом, подобно большой собаке, моя великая непринятая любовь. Тем не менее, когда я думал о ней, мне легче всего было представить ее манекеном, со спокойной улыбкой блистающим под стеклом.
Но я любил в ней ту, какую хотел видеть, оставив эту прекрасную форму нетронутой и вложив новое содержание. Однако я не был столь самонадеян, чтобы безусловно положиться на свои силы, чтобы уверовать в благоприятный результат попыток. Я считал лишь, что могу и обязан сделать все возможное. Я, к сожалению, хорошо знал, что такое проповедь, если ее слушает равнодушное существо, само смотрящее на себя лишь как на сладкую физическую цель и мысленно переводящее весь искренний жар ваш в вымысле циничном, с насмешкой над бессилием вашим овладеть положением. Поэтому мой расчет был не на слова, а на действия ее собственных чувств, если бы удалось вызвать перерождение. Немного, — о, совсем немного хотел я: живого, проникнутого легким волнением румянца, застенчивой улыбки, тени задумчивости. Мы часто не знаем, кто второй живет в нас, и второй душой мучительницы моей мог оказаться добрый дух живой жизни, который, как красота, сам по себе благо, так как заражает других.
Именно так я думал, так и передаю, не пытаясь в этом — в священном случае придать выражениям схоластический оттенок, столь выгодный в литературном отношении, ибо он заставляет подозревать прием — вещь сама по себе усложняющая впечатление читателя. Я всегда думал об этой женщине с теплым чувством, а я знаю, что есть любовь, готовая даже на смерть, но полная безысходной тоскливой злобы. У меня не было причины ненавидеть Корриду Эль-Бассо. В противном случае я был бы навсегда потерян для самого себя. Я мог только жалеть.
У меня было время думать обо всем этом, когда быстро и с облегчением я удалялся от клуба в свете электрических лун, чрезвычайно счастливый тем, что не мог ответить мулату, так как неизбежно должен был сказать «да», то есть согласиться принять машину, из противоречия и вызова самому себе; нас всегда тянет смотреть дальше, чем мы опасаемся или можем. Благодаря печальному случаю, машина оставалась при нем, ненужная ему самому. Свежесть перелетающего крепким порывом морского ветра, опахивая лицо, несколько уравновесила настроение; уже готовый улыбнуться, я переходил улицу, почти пустую в тот час ночи, неторопливо и эластично. Меня заставил обернуться ровный звук сыплющегося где-то вблизи песка. Я поскользнулся, и меня это спасло, так как мое тело, потеряв равновесие, шатнулось в сторону судорожными шагами как раз перед налетающим колесом. Еще не успело исчезнуть зрительное ощущение страшной близости, как, с пронзительным, взвизгивающим лаем, огромный серый автомобиль мелькнул в свете угла и скрылся в замирающем шипении шин. Его фонари были потушены, он был пуст Шофера я не успел рассмотреть. Я не успел также заметить его номер.