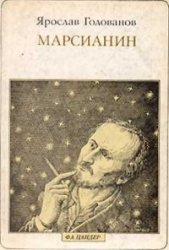Опыт биографии

Опыт биографии читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Долгая цитата из каждому доступного источника. Но перечитать это место стоит в любом переиздании. Лучше не скажешь.
Памфлет, пародия, слишком остроумно, чтобы быть глубоким? Слишком прямо? Первые ассоциации, поверхностные сближения? Очень зло, чтоб быть правдивым? Или всего лишь гениальная проза, ухватившая суть явления, развалив его и открыв миру без шелухи и украшений...
Товарищ, прочитав, перезвонил мне, мы очень смеялись. Это и верно было смешно: такой же, только другой вариант девицы Виргинской, чай - только без самовара, свой молоденький артиллерист, малый, истаскавшийся не по летам, а если не были, то могли присутствовать и наш вариант Шигалева и Лямшин. Мог бы зайти и Степан Трофимович, и даже Верховенский-младший, и Ставрогин... В тот раз, пожалуй, еще нет, но если подумать и разобраться... Другое дело, так ли это смешно и стоило ли смеяться над подобными совпадениями и похожими ситуациями, вспомнив годы 1921, 29-й, 37-й и все остальное. Сейчас это совсем не смешно, во всяком случае очень серьезно.
Следует с абсолютной трезвостью думать сегодня об этом, прошла пора интеллигентских эмоций, обошедшихся России и человечеству слишком дорого. В сознание должно прочно войти и пустить корни, обжиться понимание естественности эволюции всякой революционности, а если речь о России органичности завершения процесса интеллигентской трансформации - от Белинского через неотделимое от нечаевщины народовольчество, дальше и дальше - к гимназистам и студентам с маузерами на боку, игравшими судьбами людей с поразительным легкомыслием. Эволюция естественная, логичная, всего лишь последовательная - там, где разум трусливо виляет в сторону, находя придуманные лазейки для конструирования желаемого, жизнь вносит свои коррективы, исходя именно из логики жизни.
Но важно понять и другую точку зрения, значение и силу примера, лично пусть безрассудной отваги, пробуждение общественного интереса... Во имя чего? Здесь начинались бесконечные словопрения при полном отсутствии реального представления о желаемом. Но все-таки - об улучшении и восстановлении принципов? Очевидно, об этом, иначе зачем апеллировать к руководству и оставлять свои визитные карточки? Или это ловкий тактический ход, дипломатия и демагогия, легальный путь подрывания основ?.. Что ж, лучше рабье, рыбье молчание, традиционное согласие, а стало быть, молчаливое соучастие во всем на всех зигзагах принципиальной безнравственности?
Чисто эмоциональная реакция на происходящее имеет такое же право на существование, как и его по возможности спокойный и трезвый анализ. Вернее сказать, независимо от нашего к тому отношения существует и то и другое, дело темперамента отдавать одному из них предпочтение. Несомненно обаятельна, тем более после десятилетий трусливого молчания, немедленная реакция на несправедливость, не задумывающаяся о последствиях готовность подвергнуть собственную жизнь риску, репрессиям во имя общего блага. Но разве попытка понять, логика мысли и ее мужество менее прекрасны и одновременно менее редки у нас? А с другой стороны, разве эмоциональная возбудимость, пусть благородная и самоотверженная, достаточная гарантия прочности в государстве, созданном с помощью эмоционально возбужденной толпы интеллигентных недоучек?
Чтобы все это сформулировать хотя бы в таком примитиве, следовало это прожить. А между тем атмосфера общественной несправедливости, хозяйственной бессмысленности, политической безнравственности, сопровождавшая нас всю нашу жизнь, в какой-то момент стала непереноси-мой. В насыщенный раствор бросают кристаллы и происходит перенасыщение, начинается кристаллизация. Не было сил иронизировать и вздыхать, не было сил жить и работать, смотреть в глаза собственным детям. К тому же не было милой возможности укрыться в неведении и незнании - приходилось отдавать себе отчет в соучастии.
Видимо, самая общая основа и начало того, что называют Демократическим движением, как раз в этом - в дошедшем до сердца перенасыщении и начавшейся кристаллизации, понимании совершившегося, расставившем все по своим местам, осознании немыслимости признавать в себе хоть что-то общее с узаконенностью произвола. Одно дело шептаться о преступлениях, оставляя за собой возможность не верить информаторам, подозревая преувеличение и личный интерес, другое - столкнуться с преданным гласности огромным списком преступлений. К тому же публичность самой информации на первых порах допускала возможность громко высказывать свою принципиальность, остаться лояльным, требуя осуществления провозглашен-ных принципов. Все равно это было благом - протест против несправедливости, защита слабого, обличение мерзости.
"Белая книга" Александра Гинзбурга ("Дело А. Синявского и Ю.Даниэля"), ее пафос был несомненно продиктован этим высоким стремлением. Нужно отдать составителю должное, он выполнил работу журналистски великолепно, тщательно, самоотверженно - книга не могла не вызвать ярость начальства именно в силу того, что в ней не было криминала с точки зрения любого права и закона, всего лишь стремление к истине, воссоздание ее полной картины в документах, существующих реально и никак от составителя сборника не зависящих. Но разве организаторов процесса Синявского и Даниэля (как и других подобных процессов) интересовала когда-нибудь объективная картина происходящего?
Книга Гинзбурга была вершиной и своеобразно завершала процесс легальной оппозиционно-сти - некое подведение итогов произошедшего в общественном сознании за годы после смерти Сталина. Поэтому дело Гинзбурга и стало наиболее шумным, вовлекло столько людей, заставило наше руководство, начальство, партийный аппарат, прежде всего, в свою очередь, сплотиться.
В конце концов надо понять и их. "А нас-то кто пожалеет?!" - сказала секретарь одного из московских районных комитетов партии во время бурного обсуждения персонального дела кого-то из подписантов. Не нужно, разумеется, ничего преувеличивать, но некое беспокойство идеологические чиновники ощутили: проявившееся организованное общественное мнение, возникшее так шумно и так непривычно, вовлекавшее все увеличивающееся количество людей, настораживало, а легальность шумихи тоже имела свои неприятные стороны. Следовало перестраиваться и объединяться, иначе все начинало ползти под руками. К тому же, если письма в связи с процессом Синявского и Даниэля были вполне верноподданническими, их подписав-шие просили всего лишь о том, чтобы осужденных разрешили взять на поруки, а сам факт передачи рукописей за границу вызывал нарекания, то в защиту Гинзбурга раздались гражданские голоса, требовавшие прекращения издевательства, нарушений прав человека и компрометации закона. Надо было ждать, что последует в следующей серии писем?
Я никогда не видел Гинзбурга, знал о нем со стороны, но проделанная им работа (создание Белой книги) сама по себе представлялась фактом необычайно важным. Это не было очередной просьбой или требованием: он просто собрал все документы (их там несколько сот), имеющие отношение к процессу - от самых верноподданнейших (бездарных и пустых статей в нашей прессе) до листовки, подписанной "Сопротивление". Письма нашей интеллигенции, письма из-за рубежа, телеграмма Индиры Ганди и т. п. Та самая публичность, которой смертельно боится беззаконие, предпочитающее всегда оставаться в тени, желательно в застенке, только там, наедине со своей жертвой, чувствующее себя превосходно. Но и привлечь Гинзбурга за создание такой книги, "подвести" его под статью закона было непросто: человек не был согласен с решением суда по конкретному делу, для того, чтобы полностью представить себе его картину, собрал все документы, имеющие касательство к нему, и передал их органам нашей власти. Это и было, кстати, позицией защиты в процессе. Само же дело представляло такое нагромождение грубого, примитивного произвола, такой "детской", взращенной собственными жалкими детективами липы, что идти с таким материалом в процесс, освещавшийся прессой, вызвавший несомненный интерес за рубежом, было прежде всего глупостью. Но тут срабатывала привычка, традиция, то самое отеческое отношение к правосудию и судопроизводству, о котором уже много говорилось. В заявлениях чиновников, имеющих то или иное отношение к органам юстиции, сквозило недоумение, когда с ними пытались выяснить правовую несостоятельность дела Гинзбурга: "Кого это интересует, тем более в политическом процессе: мелкие недоработки и формальные огрехи - это адвокатам положено сотрясать воздух, тоже, кстати, лишнее, но пока неизбежное - обветшавшая форма судопроизводства, давно требующая коренной реорганизации..."