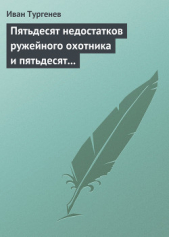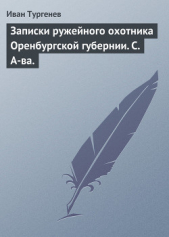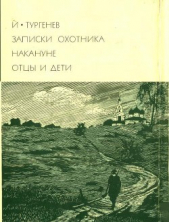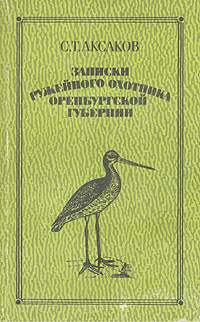Том 3. Записки охотника
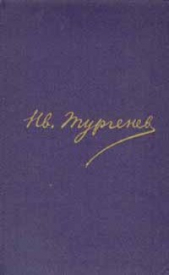
Том 3. Записки охотника читать книгу онлайн
«Записки охотника», появлявшиеся в печати отдельными рассказами и очерками на рубеже сороковых и пятидесятых годов и объединенные затем в книгу, составили первое по времени большое произведение Тургенева.
Настоящее издание «Записок охотника» подготовлено на основе изучения всех рукописных и печатных источников текста произведения, в том числе и черновых автографов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Эва! глянь-ка! над озером-то… аль чапля стоит? Неужели она и ночью рыбу ловит? Эх-ма! сук это — не чапля. Вот маху-то дал! а всё месяц обманывает.
Так мы ехали, ехали… Но вот уж и конец подошел лугам, показались лесочки, распаханные поля; деревушка в стороне мигнула двумя-тремя огоньками, — до большой дороги оставалось всего верст пять. Я заснул.
Снова я не сам собой проснулся. На этот раз меня разбудил голос Филофея.
— Барин… а барин!
Я приподнялся. Тарантас стоял на ровном месте по самой середине большой дороги; обернувшись с козел ко мне лицом, широко раскрыв глаза (я даже удивился, я не воображал, что они у него такие большие), Филофей значительно и таинственно шептал:
— Стучит!.. Стучит!
— Что ты говоришь?
— Я говорю: стучит! Нагнитесь-ка и послухайте. Слышите?
Я высунул голову из тарантаса, притаил дыхание — и действительно услыхал где-то далеко-далеко за нами слабый прерывистый стук, как бы от катившихся колес.
— Слышите? — повторил Филофей.
— Ну да, — ответил я. — Едет какой-то экипаж.
— А не слышите… чу! Во… бубенцы… и свист тоже… Слышите? Да шапку-то снимите… слышней будет.
Я шапки не снял, но приник ухом.
— Ну, да… может быть. Да что ж из этого?
Филофей повернулся лицом к лошадям.
— Телега катит… налегке, колеса кованые, — промолвил он и подобрал вожжи. — Это, барин, недобрые люди едут; здесь ведь, под Тулой, шалят… много.
— Какой вздор! Почему ты полагаешь, что это непременно недобрые люди?
— Верно говорю. С бубенцами… да в пустой телеге… Кому быть?
— А что — до Тулы еще далеко?
— Да верст еще пятнадцать будет, и жилья тут никакого нету.
— Ну, так ступай живее, нечего мешкать-то.
Филофей взмахнул кнутом, и тарантас опять покатился.
Хотя я не дал веры Филофею, однако заснуть уже не мог. А что, если в самом деле? Неприятное чувство шевельнулось во мне. Я сел в тарантасе — до тех пор я лежал — и стал глядеть по сторонам. Пока я спал, тонкий туман набежал — не на землю, на́ небо; он стоял высоко, месяц в нем повис беловатым пятном, как бы в дыме. Всё потускнело и смешалось, хотя книзу было виднее. Кругом — плоские, унылые места: поля, всё поля, кое-где кустики, овраги — и опять поля, и больше всё пар, с редкой сорной травою. Пусто… мертво! Хоть бы перепел где крикнул.
Ехали мы с полчаса. Филофей то и дело помахивал кнутом и чмокал губами, но ни он, ни я, мы не говорили ни слова. Вот взобрались мы на пригорок… Филофей остановил тройку и тотчас же промолвил:
— Стучит… Стучи-ит, барин!
Я опять высунулся из тарантаса; но я бы мог остаться под навесом балчука, до того теперь явственно, хотя еще издалека, доносился до слуха моего стук тележных колес, людской посвист, бряцанье бубенчиков и даже топот конских ног; даже пенье и смех почудились мне. Ветер, правда, тянул оттуда, но не было сомненья в том, что незнакомые проезжие на целую версту, а может и на две, стали к нам ближе.
Мы с Филофеем переглянулись — он только шляпу сдвинул с затылка на лоб и тотчас же, нагнувшись над вожжами, принялся стегать лошадей. Они пустились вскачь, но долго скакать не могли и опять побежали рысью. Филофей продолжал стегать их. Надо ж было уходить!
Я не мог себе дать отчета, почему в этот раз я, сначала не разделявший подозрений Филофея, вдруг получил убеждение, что следом за нами ехали точно недобрые люди… Ничего нового не услыхал я: те же бубенцы, тот же стук ненагруженной телеги, то же посвистывание, тот же смутный гам… Но я теперь уже не сомневался. Филофей не мог ошибиться!
И вот опять прошло минут двадцать… В течение последних из этих двадцати минут сквозь стук и грохот собственного экипажа нам уже слышался другой стук и другой грохот…
— Остановись, Филофей, — сказал я, — всё равно — один конец!
Филофей трусливо тпрукнул. Лошади мгновенно стали, как бы обрадовавшись возможности отдохнуть.
Батюшки! бубенцы просто ревут за самой нашей спиною, телега гремит с дребезгом, люди свистят, кричат и поют, лошади фыркают и бьют копытами землю…
Нагнали!
— Би-и-да, — с расстановкой, вполголоса, промолвил Филофей и, нерешительно чмокнув, стал понукать лошадей. Но в это самое мгновенье что-то вдруг словно сорвалось, рявкнуло, ухнуло — и большущая развалистая телега, запряженная тройкой поджарых коней, круто, вихрем обогнула нас, заскакала вперед и тотчас пошла шагом, загораживая дорогу.
— Самая разбойничья повадка, — прошептал Филофей.
Признаться, у меня на сердце захолонуло… Принялся я глядеть с напряженьем в полумрак лунного, парами застланного света. В телеге перед нами не то сидело, не то лежало человек шесть в рубахах, в армяках нараспашку; у двоих на головах не было шапок; большие ноги в сапогах болтались, свесившись через грядку, руки поднимались, падали зря… тела тряслись… Явное дело: пьяный народ. Иные горланили — так, что ни попало; один свистал очень пронзительно и чисто, другой ругался; на облучке сидел какой-то великан в полушубке и правил. Ехали они шагом, как будто не обращая на нас внимания.
Что было делать? Мы поехали за ними тоже шагом… поневоле.
С четверть версты двигались мы таким манером. Ожидание мучительное… Спасаться, защищаться… где уж тут! Их шестеро, а у меня хоть бы палка! Повернуть оглоблями назад? но они тотчас догонят. Вспомнился мне стих Жуковского (там, где он говорит об убийстве фельдмаршала Каменского):
А не то — горло сдавят грязной веревкой… да в канаву… хрипи там да бейся, как заяц в силке…
Эх, скверно!
А они по-прежнему едут шагом и не обращают на нас внимания.
— Филофей, — шепнул я, — попробуй-ка, возьми правее, ступай будто мимо.
Филофей попробовал — взял вправо… но те тотчас тоже взяли вправо… проехать стало невозможно.
Филофей попытался еще: взял налево… Но и тут ему не дали миновать телегу. Даже засмеялись. Значит, не пропускают.
— Как есть разбойники, — шепнул мне Филофей через плечо.
— Да чего же они ждут? — спросил я тоже шёпотом.
— А вон там впереди, в ложбине, над ручьем, мостик… Они нас там! Они всегда этак… возле мостов. Наше дело, барин, чисто! — прибавил он со вздохом, — вряд ли живых отпустят; потому им главное: концы в воду. Одного мне жаль, барин: пропала моя троечка, — и братьям-то она не достанется.
Подивился бы я тут, как это Филофей в подобную минуту может еще о своих лошадях заботиться, да, признаюсь, мне самому было не до него… «Неужто же убьют? — твердил я мысленно. — За что? Ведь я им всё отдам, что у меня есть».
А мостик всё приближался, всё становился видней да видней.
Вдруг раздалось резкое гиканье, тройка перед нами словно взвилась, понеслась и, доскакав до мостика, разом остановилась как вкопанная немного сбоку дороги. Сердце во мне так и упало.
— Ох, брат Филофей, — промолвил я, — едем мы с тобою на смерть. Прости меня, коли я тебя загубил.
— Какая твоя вина, барин! Своей судьбы не минуешь! Ну, кудластый, лошадушка моя верная, — обратился Филофей к кореннику, — ступай, брат, вперед! Сослужи последнюю службу! Всё едино… Господи! бо-слови!
И он пустил свою тройку рысцой.
Стали мы приближаться к мостику, к той неподвижной, грозной телеге… На ней, как нарочно, всё затихло. Ни гу-гу! Так затихает щука, ястреб, всякий хищный зверь, когда приближается добыча. Вот поравнялись мы с телегой… вдруг великан в полушубке прыг с нее долой — и прямо к нам!
Ничего-то он не сказал Филофею, но тот сам тотчас натянул вожжи… Тарантас остановился.
Великан положил обе руки на дверцы и, наклонив вперед свою мохнатую голову и осклабясь, произнес тихим, ровным голосом и фабричным говорком следующее:
— Господин почтенный, едем мы с честного пирка, со свадебки; нашего молодца, значит, женили; как есть, уложили; ребята у нас всё молодые, головы удалые — выпито было много, а опохмелиться нечем; то не будет ли ваша такая милость, не пожалуете ли нам деньжонок самую чуточку, — так, чтобы по косушке на брата? Выпили бы мы за ваше здоровье, помянули бы ваше степенство; а не будет вашей к нам милости — ну, просим не осерчать!