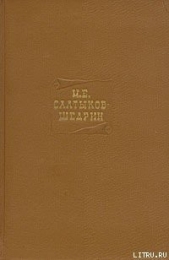Том 1. Проза, рецензии, стихотворения 1840-1849
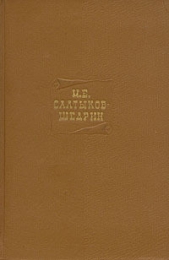
Том 1. Проза, рецензии, стихотворения 1840-1849 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В первый том входят произведения Салтыкова 1840–1849 годов, открывающие творческую и политическую биографию писателя. От подражательной романтики юношеских стихотворений к реализму и демократической настроенности «Запутанного дела» и «Брусина» — таков путь литературно-общественного развития молодого Салтыкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, это ужасно! быть закованным в тяжелые цепи, осужденным на вечную тьму, вечно видеть одно и то же сухое и прозаическое лицо темничного стража, слышать, как капля по капле вытекает ваша жизнь!.. о, это ужасно!.. — сказал господин Беобахтер, особенно нежно напирая на слова: «капля по капле».
— Уж как пошел, брат, по мечтанию, — снова заметил Иван Макарыч, — да начал вывертывать в голове разные этакие штуки, так тут уж, брат, адьё мон плезир [61], пиши пропало… Вот я про себя скажу: я в жизнь свою никогда не мечтал, а поди-тко, поищи другого такого молодца…
Шарлотта Готлибовна зарделась.
— Ну, так что ж ты не встаешь? — продолжал он, обращаясь к Мичулину и сильно тряся его за руку, — не спать же, в самом деле, целый день! Небойсь, раскис, укачали тебя домовые-то? Эка баба! просто даже смотреть на тебя противно! Просто гадиной такой выглядишь, что плюнуть хочется!
Но Иван Самойлыч молчал; бледный, как полотно, лежал он без всякого движения на постели; пульс его бился слабо и медленно; во всем существе своем ощущал он какую-то небывалую, болезненную слабость.
Наденька Ручкина наклонилась к нему и, взяв его за руку, спросила, не нужно ли ему чего-нибудь, что он чувствует — и так далее, как обыкновенно спрашивают сердобольные молодые девушки.
— Я не знаю… мне больно! — чуть слышно отвечал Иван Самойлыч, — мне очень больно…
— А! небойсь, и язык развязался! — ревел между тем Пережига, — небойсь, расшевелился, как женский-то пол подошел!
— Оставьте меня… я болен! — шептал Иван Самойлыч умоляющим голосом.
— Да и в самом деле, пусть его тут бабится! Милости просим, господа, ко мне! А вы бы, Шарлотта Готлибовна, подали нам водочки! О-о-ох, господи! за грехи мира сего наказуешь нас!
Иван Самойлыч остался один на один с Наденькой; глаза его неподвижно были устремлены на нее; бледное, худое лицо выражало непереносное страдание; медленно взял он ее руку и долго-долго прижимал к губам своим.
— Наденька! добрая! — сказал он прерывающимся голосом, — поцелуй меня… в первый и в последний раз!..
Наденька изумилась. По свойственной ей подозрительности она начала уж было смекать, что все это недаром, что все это штука, что он хочет только усыпить ее бдительность; но когда она взглянула на это изможденное лицо, на эти глаза, обращенные к ней с мольбою и ожиданием, ей вдруг стало как-то совестно своих подозрений; маленькому сердцу ее сделалось и тесно и неловко, а притом и слеза, самая миньятюрная, крохотная слеза, как-то совершенно нечаянно навернулась на глаза и упала с ее глаз на раскрытую грудь Мичулина. Делать нечего, Наденька отерла слезу, наклонилась и поцеловала больного. Лицо Ивана Самойлыча улыбнулось.
— Что это с вами, Иван Самойлыч? — спросила Наденька, — верно, вы простудились?
— Ох, нет! это всё то… всё по тому делу… помните, по которому я к вам приходил?
— А что, разве оно важное какое-нибудь дело, что так расстроило вас?
— Да; оно, знаете… дело капитальное!.. А как мне больно-то, больно-то, если б вы знали!
Наденька покачала головкой.
— Не послать ли за лекарем, Иван Самойлыч?
— За лекарем?.. да; оно бы не худо! может, что-нибудь и прописал бы… а впрочем, зачем? ведь дела-то он мне все-таки не объяснит!.. нет, не нужно лекаря!
— Да, по крайней мере, он помог бы вам, Иван Самойлыч.
— Нет, уж это пустое дело, Наденька! самое пустое! я вам говорю, а я уж знаю… Оно, может статься, и поможет, да толку-то в этом что будет! Ну, выздоровлю… а потом-то?.. нет, не надо лекаря…
Наденька молчала.
— Да, к тому же, лекарю-то ведь нужно денег; к бедному хороший-то и пойти не захочет… вот оно что! а какой попадется-то — Христос с ним! только измучит… лучше уж так умереть!
В это время дверь с шумом отворилась, и в комнату ввалилась дебелая фигура Пережиги с штофом в одной и рюмкою в другой руке.
— А вот, хвати-ко, друже, бальзамчику! — ревел знакомый Иван Самойлычу голос, — это, брат, знаешь, как душу отведет, ей-богу, отведет!.. А умрешь, так, видно, так уж оно быть должно, видно, так уж и богу угодно! ну-ка, выпей. Да не морщись же, баба!
И Мичулин с ужасом видел, как дрожащая и неверная от частых жертв Бахусу рука Пережиги наполняла рюмку жгучим, как огонь, составом, заключавшимся в графине. Он начал было отказываться, говорил, что ему легче, что он — слава богу, но тщетно: рюмка была уже налита, да притом же и Наденька, своим мягким голоском, убеждала его попробовать, авось, дескать, от этого немного и полегчит ему. Не переводя духу, выпил Иван Самойлыч поданную водку и почти без чувств упал на постель.
— Эка водка! эка вор-водка! — говорил между тем друг и приятель Иван Макарыч, глядя на искаженное конвульсиями лицо Мичулина. — Эк ее забирает, эк забирает! у, бестианская водка! еще как он не захлебнулся! право, так! живуч, живуч! а ведь в чем душа держится!
И Пережига с самодовольною улыбкою любовался изнеможением и страданиями Ивана Самойлыча, как будто хотел сказать ему: «А что, брат! задал я тебе задачу? посмотрим, как-то ты из нее выпутаешься… а живуч! живуч!»
Действительно, выпутаться было уж довольно трудно. Наденька побежала за доктором и вскоре привела какого-то немца, несколько навеселе, беспрестанно нюхавшего табак и плевавшего во все стороны. Лекарь подошел к больному, долго и с напряжением щупал ему пульс, как будто хотел провертеть у него в руке дыру, и покачал головой; велел высунуть язык, осмотрел и тоже покачал головой; потом понюхал табаку, снова пощупал пульс и пристально осмотрел язык.
— Schlecht [62], — сказал доктор в раздумье.
— Что ж? есть ли какая-нибудь надежда? — спросила Наденька.
— О, никакой! и не полагайте! а впрочем, поднимите пациенту голову…
Голову подняли.
— Гм, никакой надежды! уж вы поверьте, я уж знаю!.. вы давали ему что-нибудь?
— Да, Иван Макарыч давал ему водки.
— Водки? schlecht, sehr schlecht… [63] A есть у вас водка?
— Не знаю; спрошу у Иван Макарыча.
— Нет, не нужно: я так, более из любопытства… а впрочем, уж если есть, так отчего и не выпить?
Наденька вышла и минут через пять воротилась с графином.
— Водка очень часто здорово, а очень часто и вредно, — глубокомысленно заметил медик.
— Что ж, умереть, что ли, надобно? — робко и едва слышно спросил Иван Самойлыч.
— Да уж это будьте покойны! умрете, непременно умрете!
— А скоро? — снова спросил больной.
— Да этак часа через два, через три, надо будет… Прощайте, почтеннейший; желаю вам покойной ночи!
Однако ночь была неспокойна. По временам больной, действительно, засыпал, но потом внезапно вскакивал с постели, хватал себя за голову и жалобным голосом спрашивал у Наденьки, куда девался его мозг, зачем сдавили у него душу, и проч. На это Наденька отвечала, что головка его цела, слава богу, а вот, мол, не хочется ли ему выпить ромашки — так ромашка есть. И он брал чашку в руку и беспрекословно выпивал ромашку.
На другой день к обеду ему сделалось как будто и полегче: он был спокоен, и хотя очень слаб, но мог, однако же, говорить. Он брал у Наденьки руки, прижимал их к сердцу, целовал их, прижимал к глазам, ко лбу, и плакал… тихими, сладкими слезами плакал.
И Наденьке, с своей стороны, тоже было жаль его. Впервые она как будто поняла, что в ее глазах умирает человек, что этот человек любил ее, а она жестко и неприязненно оттолкнула его от себя. Кто знает, что причиною этой смерти? Кто знает, может быть, он был бы и здоров и весел, если бы… о, если бы ты взглянуло, доброе, чудное существо, взглянуло глазами сострадания и сочувствия на это обращенное к тебе лицо! если бы ты могло уронить хоть один луч любви на эту бедную, истерзанную горем и нуждою душу! о, если бы это было возможно!
— Послушайте, — говорил между тем Иван Самойлыч, взяв ее за руку, — вы забудьте, что я надоедал вам, что я оскорблял вас… Оно конечно, я много и много виноват, да ведь что же делать? ведь я один, Наденька, совсем один… Никого у меня нет, горько мне приходилось, а ведь одному скучно, куда как скучно!.. Ведь я же не виноват, что не красив и не учен, — что же мне с этим делать? Разумеется, и вы не виноваты, что не могли любить меня…