На дне. Избранное (сборник)
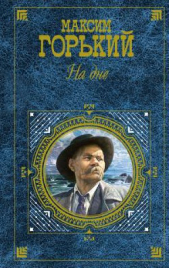
На дне. Избранное (сборник) читать книгу онлайн
Максим Горький (псевдоним Алексея Максимовича Пешкова; 1868–1936) — едва ли не самый известный и вместе с тем самый непрочитанный писатель XX века. Его творческое наследие огромно и разнообразно. В этом томе, составленном на основе современных школьных программ по литературе, перед читателями предстанет разноликий Горький — не только автор самобытной прозы и драматург, но и поэт, а также публицист. Возможно, те, кто окончил школу в советские времена, уже вместе со своими детьми откроют для себя новый образ этого художника слова — способного не только вовремя выпустить пропагандистский роман Мать, но и прозревавшего сокровенные тайны человеческой натуры и людского сообщества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Правильно изволили вы намедни сказать, что народ — не помнящий родства…
— Давили, видишь ты, давили, да как бы уж и вовсе выдавили душу-то живую, одни ошметки остались…
— А главное — понять невозможно, что значит забастовка эта и чьего она ума?..
— Пойдем чайку попить ко мне…
Но торопясь, они идут по улице, прочь от взволнованных людей, оба степенные, задумчивые.
Люди отходили от толпы, но она не таяла, становилась всё шумнее, оставшиеся на базаре терлись друг о друга, и это нагревало их все более. Явились женщины, их высокие голоса, вливаясь в общий шум, приподнимали его и обостряли отношения: шум пенился, точно крепкая брага, становился все пьянее, кружил головы. Общая тревога не угасала, недоумение не разрешалось — среди этих людей не было сил создать одну мысль и одно чувство; угловатые, сухие и разные, они не сливались в живую разумную силу, освещенную единством желания.
И не о чем было говорить, кроме близких и хорошо знакомых, будничных дел.
Женщины вынесли на улицу домашнее: косые взгляды, ехидные улыбки, и многое давнее, полузабытое, снова начинало тлеть и куриться, ежеминутно вспыхивая то там, то тут злыми огоньками.
— Нет, матушка моя, не-ет! Ты мне за это ответишь!
Говорили о трех кочнах пластовой капусты, украденных с погреба, о том, что Ванька Хряпов не хочет жениться на Лизе Матушкиной и что казначей исхлестал дочь плетью.
Незаметно избили Минакова, он шел но улице, упираясь в заборы руками, плевался кровью, всхлипывал и ныл:
— Господи-и! За что-о?
Свистя и взвизгивая, носился по городу ветер, раздувал шум и, охлаждая сбитых в толпу возбужденных людей, вытеснял их с улицы в дома и трактиры.
Гулко шумели деревья, зловеще выли и лаяли обеспокоенные собаки.
Во тьме, осторожно ощупывая палочкой землю, молча шагал Тиунов, а рядом с ним, скользя и спотыкаясь, шел Бурмистров, размахивая руками, и орал:
— Много ль ты понимаешь, кривой!
Боясь, что Вавило ударит его, Тиунов покорно ответил:
— Мало я понимаю.
А боец взял его за плечи, с упреком говоря:
— И никого тебе не жаль — верно?
Кривой промолчал, вглядываясь в огни слободы, тонувшие где-то внизу, во тьме.
— Верно! — тверже сказал Вавило. — Я — лучше тебя! Мне сегодня всех жалко, всякий житель стал теперь для меня — свой человек! Вот ты говоришь — мещаны, а мне их — жаль! И даже немцев жаль! Что ж немец? И немец не каждый день смеется. Эх, кривой, одноглазая ты душа! Ты что про людей думаешь, а? Ну, скажи!
Не хотелось Тиунову говорить с человеком полупьяным, а молчать — боялся он. И, крякнув, осторожно начал:
— Что ж люди? Конечно, всем плохо живется…
— Ага-а! — слезливо воскликнул Вавило.
— Ну, однако, в этом и сами они не без вины же…
— Во-от! — всхлипывая, крикнул Бурмистров. — Сколько виновато народу против меня, а? Все говорили — Бурмистров, это кто такое? А сегодня — видели? Я — всех выше, и говорю, и все молчат, слушают, ага-а! Поняли? Я требую: дать мне сюда на стол стул! Поставьте, говорю, стул мне, желаю говорить сидя! Дали! Я сижу и всем говорю, что хочу, а они где? Они меня — ниже! На земле они, пойми ты, а я — над ними! И оттого стало мне жалко всех…
Шли по мосту. Черная вода лизала сваи, плескалась и звенела в тишине. Гулко стучали неверные шаги по расшатанной, измызганной настилке моста.
— Стало мне всех жалко! — кричал Вавило, пошатываясь. — И я говорю честно, всем говорю одно — дайте человеку воли, пусть сам он видит, чего нельзя! Пусть испробует все ходы сам, — эх! Спел бы я теперь песню — вот как! Артюшки нет…
Он остановился в темноте и заорал:
— Артюха-а!
Тиунов быстро шагнул вперед и, согнувшись, трусцой побежал к слободе.
— Артюха-а! — слышал он позади хрипящий зов, задыхался и прыгал всё быстрее, подобрав полы, зажимая палочку под мышкой.
— Кривой! Захарыч!
Тиунов по звуку понял, что Вавило далеко, на минутку остановился, отдышался и сошел с моста на песок слободы, — песок хватал его за ступни, тянул куда-то вниз, а тяжелая, густая тьма ночи давила глаза.
Бурмистров, накричавшись до надсады в горле, иззяб, несколько отрезвел и обиженно проворчал:
— Ушел, кривой дьявол. Хорошо!
Он быстро начал шагать посредине моста, доски хлюпали под ногами, — и вдруг остановился, думая:
«А если он в воду упал?»
Подошел к перилам, заглянул в черную блестящую полосу под ногами, покачал головой.
— У-у!
И, махнув рукою, запел:
— Ушел, кривой! Пренебрегаешь? — ворчал он, прерывая песню.
В памяти Бурмистрова мигали жадные глаза горожан, все они смотрели па него снизу вверх, и было в них что-то подобное огонькам восковых свеч в церкви пред образом. Играло в груди человека долгожданное чувство, — опьяняя, усиливало тоскливую жажду суеты, шума, движения людей…
Он шлепал ногами по холодному песку и хотя почти совсем отрезвел, но кричал, махал руками и, нарочно распуская мускулы, качался под ветром из стороны в сторону, как гибкий прут.
Кое-где в окнах слободы еще горел огонь. «Фелицатин раишко» возвышался над хижинами слобожан темной кучей, точно стог сена над кочковатым полем. И во тьму не проникало из окон дома ни одной полоски света.
«Пойду к ней, к милой Глаше, другу! — решил Бурмистров, вдруг согретый изнутри. — Расскажу ей все… Кто, кроме нее, меня любит? Кривая собака — убежала…»
Он безнадежно махнул рукой и, глядя на воеводинский дом, соображал:
«Никого нет. Попрятались все».
Когда Вавило подошел к воротам, встречу ему, как всегда, поднялся Четыхер, но сегодня он встал против калитки и загородил ее.
— Пропускай, ну! — грубо сказал Навило.
— Занята Глашка, — ответил Четыхер.
— Врешь?
Дворник промолчал.
— Ведь никого нет?
— Стало быть — есть.
Препятствие возбуждало Бурмистрова. Он всем телом вспомнил мягкую теплую постель и вздрогнул от холода.
— Жуков, что ли? — угрюмо спросил он.
И вдруг ему показалось, что Четыхер смеется; он присмотрелся — плечи квадратного человека дрожали и голова тоже тряслась.
— Ты чего? — заревел он и, забыв, что дворник сильнее его, взмахнул туго сжатым кулаком. Но запястье его руки очутилось в крепких пальцах Четыхера.
— Ну-ка, не бесись, не ори, дурак! — спокойно и как будто даже весело сказал Кузьма Петрович. — Ты погоди-ка. Я пущу тебя, пес с тобой! Ну — только уговор: там у нее Девушкин…
— Кто? — спросил Вавило, выдернув руку и отшатнувшись.
— Ну — кто! Говорю — Девушкин Семен.
— Симка? — повторил Бурмистров и до горла налился холодным изумлением.
— Ежели ты его тронешь, — вразумительно говорил Четыхер, — гляди — плохо тебе будет от меня! Для прилику, для страха — ударь его раз, ну — два, только — слабо! Слышь? А Глашку — хорошенько, ее вздуй как надо, она сама дерется! По холодной-то морде ее, зверюгу! А Семку — тихо! Ну, ступай!
Он отворил калитку, но Бурмистров стоял перед нею, точно связанный, наклоня голову и спрятав руки за спину.
— Ну-ка, иди! — сказал Четыхер, подталкивая его.
Он высоко поднял ногу, как разбитая лошадь, ступил во двор и, добравшись в темноте до крыльца, сел на мокрую лестницу и задумался.
«Милый ты мой, одинокий ты мой!» — вспомнились ему певучие причитания Лодки.
Нехорошее, обессиливающее волнение, наполняя грудь, кружило голову, руки дрожали, и было тошно.
«Врет Четыхер! — заставил он себя подумать. — Врет!»
Он мысленно поставил рядом с Лодкой неуклюжего парня, уродливого и смешного, потом себя — красавца и силача, которого все боятся. «Чай, не колдун Симка?» — вяло подумал Бурмистров, стиснув зубы, вспомнив пустые глаза Симы.


























