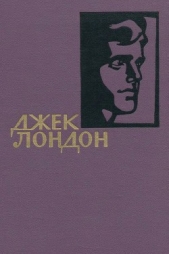Том 4. Повести и рассказы, статьи 1844-1854
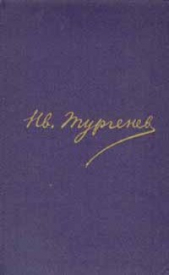
Том 4. Повести и рассказы, статьи 1844-1854 читать книгу онлайн
В четвертый том вошли повести и рассказы, статьи и рецензии и незавершенное произведение И.С. ТургеневаПовести и рассказы 1844-1854гг.: "Андрей Колосов", "Бретёр", "Три портрета", "Жид", "Петушков", "Дневник лишнего человека", "Три встречи", "Муму", "Постоялый двор", "Два приятеля", "Затишье".Статьи и рецензии 1850-1854: " Несколько слов об опере Мейербера «Пророк», "Поэтические эскизы. Альманах стихотворений, изданный Я.М. Позняковым и А.П. Пономаревым", "Племянница. Роман, соч. Евгении Тур. 4 части, Москва, 1851", "Несколько слов о новой комедии г. Островского «Бедная невеста»,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А я как люблю музыку, так это просто ужас! — воскликнула Эмеренция.
— Вы не только ее любите — вы сами превосходная музыкантша, — заметил Петр Васильич.
— Неужели? — спросил Борис Андреич.
— Да, — продолжал Петр Васильич, — и Эмеренция Калимоновна и Пелагея Калимоновна, обе поют и на фортепьяно играют отлично, особенно Эмеренция Калимоновна.
Услышав свое имя, Поленька вспыхнула и чуть не вскочила с места, а Эмеренция скромно потупила глаза.
— Ах, mesdemoiselles, — заговорил Борис Андреич, — неужели вы не будете так добры… не сделаете мне удовольствия…
— Я, право… не знаю… — прошептала Эмеренция и, бросив украдкой взгляд на Петра Васильича, прибавила с упреком: — Ах, какие вы!
Но Петр Васильич, как человек положительный, тотчас обратился к самой хозяйке.
— Пелагея Ивановна, — сказал он, — прикажите вашим дочерям сыграть нам что-нибудь или спеть.
— Я не знаю, в голосе ли они сегодня, — возразила Пелагея Ивановна, — но можно попробовать.
— Да, попробуйте, попробуйте, — промолвил отец.
— Ах, maman, да как можно…
— Эмеранс, кан же ву ди… [26]— проговорила вполголоса, но очень серьезно Пелагея Ивановна.
У ней была привычка, общая многим матерям, отдавать приказы или делать наставления своим детям при других людях на французском диалекте, хотя бы те люди и понимали по-французски. И это было тем более странно, что сама она довольно плохо знала этот язык и произносила дурно.
Эмеренция встала.
— Что же мы будем петь, maman? — спросила она с покорностью.
— Ваш дуэт: он премиленький. У моих дочерей, — продолжала Пелагея Ивановна, обращаясь к Борису Андреичу, — разные голоса: у Эмеренции дишкант…
— Сопрано, вы хотите сказать?
— Да, да, сомпрано. А у Поленьки контроальт.
— А! контральт! это очень приятно.
— Я не могу сегодня петь, — промолвила Поленька с усилием, — я охрипла.
Голос ее действительно походил больше на бас, чем на контральт.
— А! ну в таком случае, Эмеранс, спой нам свою арию, ты знаешь, итальянскую, фаворитную; а Поленька тебе будет аккомпанировать.
— Ту арию, где ты горошком, горошком, — подтвердил отец.
— Бравурную, — объяснила мать.
Обе девицы подошли к фортепьяно. Поленька подняла крышку, положила тетрадку рукописных нот на пюпитр и села, а Эмеренция стала подле нее, едва заметно, но мило рисуясь под устремленными взорами Бориса Андреича и Петра Васильича и по временам поднося платок к губам. Наконец она запела, как большей частью поют барышни, — визгливо и не без завываний. Слова она произносила невнятно, но по иным носовым звукам можно было догадаться, что она поет по-итальянски. Под конец она действительно рассыпалась горошком, к большому удовольствию Калимона Иваныча — он слегка приподнялся в креслах и воскликнул: «Хорошенько его!» — но последнюю трель она пустила ранее, чем бы следовало, так что сестра ее несколько тактов сыграла уже одна. Это, однако же, не помешало Борису Андреичу изъявить свое удовольствие и сказать Эмеренции комплимент; а Петр Васильич, повторив раза два: «Очень, очень хорошо», прибавил: «Нельзя ли теперь нам чего-нибудь русского, „Соловья“, например, или „Сарафанчика“ * , или какую-нибудь цыганскую песенку? А то эти иностранные штуки, правду сказать, не для нашего брата писаны».
— И я с вами согласен, — промолвил Калимон Иваныч.
— Шанте… [27]ле «Сарафан», — заметила вполголоса и с прежней суровостью мать. *
— Нет, не «Сарафан», — подхватил Калимон Иваныч, — а «Мы две цыганки» или «Скинь-ка шапку да пониже поклонись…» * — знаешь?
— Папа, уж вы всегда такой! — возразила Эмеренция и спела «Скинь-ка шапку», и довольно порядочно спела. Калимон Иваныч подтягивал ей и подтопывал, а Петр Васильич пришел в совершенный восторг.
— Вот это другое дело! Вот это по-нашенски! — твердил он. — Утешили, Эмеренция Калимоновна!.. Теперь я вижу, что вы имели право назвать себя охотницей и мастерицей! Согласен: охотница и мастерица!
— Ах, какой вы нескромный! — возразила Эмеренция и хотела возвратиться на свое место.
— Апрезан [28]ле «Сарафан», — проговорила мать.
Эмеренция спела «Сарафан» не с таким успехом, как «Скинь-ка шапку», но все-таки с успехом.
— Теперь бы следовало вам сыграть вашу сонату в четыре руки, — заметила Пелагея Ивановна, — но уж это лучше до другого разу, а то, я боюсь, мы надоедим господину Вязовнину.
— Помилуйте… — начал было Борис Андреич.
Но Поленька тотчас захлопнула фортепьяно, а Эмеренция объявила, что она устала. Борис Андреич почел за нужное повторить свой комплимент.
— Ах, monsieur Вязовнин, — отвечала она, — вы, я думаю, слышали не таких певиц; я воображаю, после них что значит мое пенье… Конечно, Бомериус, когда он проезжал здесь, говорил мне… Ведь вы, я думаю, слыхали про Бомериуса?
— Нет, какой это Бомериус?
— Ах, помилуйте! Отличный скрипач, в Парижской консерватории воспитывался, удивительный музыкант… Он говорил мне, что «mademoiselle, если бы с вашим голосом да поучиться у хорошего учителя, то это было бы просто удивительно». Просто все пальчики мне перецеловал… Но где здесь учиться?
И Эмеренция вздохнула.
— Да, конечно… — вежливо возразил Борис Андреич, — но с вашим талантом… — Он замялся и еще вежливее глянул в сторону.
— Эмеранс, деманде́, пуркуа ке-ле-дине [29], — проговорила Пелагея Ивановна.
— Oui, maman [30], — возразила Эмеренция и вышла, приятно подпрыгнув перед дверью.
Она бы не подпрыгнула, если б не было гостей. А Борис Андреич направился к Поленьке.
— «Коли это семейство Лариных, — подумал он, — так уж не Татьяна ли она?»
И он подошел к Поленьке, которая не без ужаса следила за его приближением.
— Вы прелестно аккомпанировали вашей сестрице, — начал он, — прелестно!
Поленька ничего не отвечала, только покраснела до самых ушей.
— Мне очень жаль, что мне не удалось услышать ваш дуэт… Из какой он оперы?
Глаза Поленьки беспокойно забегали.
Вязовнин подождал ее ответа; ответа не было.
— Какую вы больше музыку любите? — спросил он, погодя немного, — итальянскую или немецкую?
Поленька потупилась.
— Пелажи, репонде́ донк [31], — раздался взволнованный шёпот Пелагеи Ивановны.
— Всякую, — торопливо произнесла Поленька.
— Однако как же всякую? — возразил Борис Андреич. — Это трудно предположить. Например, Бетховен — гений первой величины, и между тем он оценен не всеми.
— Нет-с, — отвечала Поленька.
— Искусство бесконечно разнообразно, — продолжал неугомонный Борис Андреич.
— Да-с, — отвечала Поленька.
Разговор между ними длился недолго.
«Нет, — думал Борис Андреич, отходя от нее, — какая это Татьяна! это просто олицетворенный трепет…»
А бедная Поленька в тот день, ложась спать, со слезами жаловалась своей горничной, как к ней сегодня гость пристал с музыкой, и как она не знала, что отвечать ему, и как она несчастна бывает, когда приезжают гости: только маменька потом бранится — вот и всё удовольствие…
За обедом Борис Андреич сидел между Калимоном Иванычем и Эмеренцией. Обед был русский, без затей, но сытный и Петру Васильевичу гораздо более пришелся по вкусу, чем ухищренные яства вдовы. Подле него сидела Поленька и, победив, наконец, свою робость, по крайней мере отвечала на его вопросы. Зато Эмеренция так усердно занимала своего соседа, что ему, наконец, пришлось невмочь. У ней была привычка гнуть голову направо, поднося ко рту кусок слева — словно она заигрывала с ним; и эта привычка очень не нравилась Борису Андреичу. Не нравилось ему также и то, что она беспрестанно говорила о самой себе, с чувством доверяя ему самые мелкие подробности своей жизни; но, как человек вежливый, он нисколько не обнаруживал ощущений своих, так что наблюдавший за ним через стол Петр Васильич решительно не мог отдать себе отчета, какого рода впечатление производила на него Эмеренция.