В тупике. Сестры
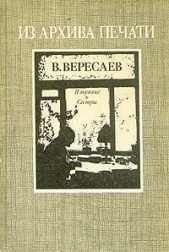
В тупике. Сестры читать книгу онлайн
Современному читателю неизвестны романы «В тупике» (1923) и «Сестры» (1933). В начале 30-х гг. они были изъяты с полок библиотек и книжных магазинов и с тех пор не переиздавались. В этих романах нашли отражение события нашей недавней истории: гражданская война и сложный период конца 20-х – начала 30-х годов. В послесловие вошли не публиковавшиеся ранее материалы из архива писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Спирька процедил:
– Ого! Как раз и хронометраж идет. Держись, ребята!
В лакировочную входила Бася Броннер с папкою в руке. Все не спеша взялись за работу.
Бася подошла к столам, где рядом работали Спирька и Царап-кин. Спирька оглядел ее наглыми глазами. Бася от него отвернулась. Достала карандаш, положила секундомер на край стола и начала наблюдать работу Царапкина. Царапкин медленно снимал колодку, медленно макал ее в лак и старательнейше обмазывал рукою бордюр. Бася начала было записывать его движения, – безнадежно опустила папку и спросила:
– Вы, товарищ, всегда так медленно работаете? Царапкин с готовностью стал объяснять:
– Скорая работа, товарищ, у нас никак не допустима. Галоши нужно обмазывать очень осторожно, чтоб ни одна капелька лака не попала на колодку. Н-и о-д-на, понимаете? А то при вулканизации лак подсохнет на колодке. Когда новую галошу на колодке станут собирать, подсохший этот лак сыплется на резину и получается брак. Самая частая причина брака.
Бася раздраженно возразила:
– Напрасно вы мне это, товарищ, рассказываете, – я и сама все это не хуже вас знаю.
– А знаете, так чего же удивляетесь?
И продолжал с медленною старательностью обмазывать галоши. Бася прикусила губу, помолчала и стала записывать его движения. Сзади кто-то с возмущением сказал:
– Как не надоест! Ходит, ничего сама не работает, только глазеет и пишет.
Бася вспыхнула и не сдержалась:
– Зато вам после меня придется больше работать!
– Да уж это конечно! На то вас тут и поставили, – шнырять да вынюхивать, как бы норму нагнать. Царапкин примиряюще возразил:
– Товарищи, нельзя так. Это ее работа, она ее обязана делать.
Бася, поглядывая на секундомер, старательнейшим образом продолжала записывать все – видимо, замедленные – движения Царапкина. Наконец кончила, сложила папку и пошла к выходу. Вдогонку ей засмеялись.
Царапкин морщился и махал на товарищей руками.
– Нельзя так, ребята! Ну что это! Все дело только портите. Она сразу и поняла, что мы дурака валяем. Нужно было ничего не показывать, – только растягивай каждый работу, и больше ничего. Эх, подгадили все дело!
Трудная это была и неприятная работа Баси – хронометраж. Рабочие настораживались, когда она подходила, знали, что выгоднее работать на ее глазах помедленнее, и отношение к ней было враждебное. Силой воли Бася обладала колоссальною, но и она с непривычки часто падала духом, никак не могла найти нужного подхода.
Весь этот день она промучилась, и самолюбие сильно страдало, когда вспоминала общий смех себе вдогонку. Вечером случайно узнала в ячейке, что Царапкин – комсомолец, да еще активист. Вспомнила, что даже имела с ним кой-какие дела. Бася решила пойти к нему на дом и поговорить по душам.
Царапкин жил в конце трамвайной линии, около аптеки, в огромном шестиэтажном, только что выстроенном доме рабоче-жилищной кооперации. Позвонила Бася, вошла.
Царапкин очень удивился. Она сказала, сурово глядя на него черными глазами:
– Я не знала, что ты комсомолец, уже после узнала. Пришла с тобою поговорить по-товарищески, по-комсомольски. Что же это ты, Царапкин, делаешь?
Вася с невинным лицом смотрел.
– Это насчет того, когда ты была у нас в лакировке? Что же я делаю? Когда ты ушла, я, совершенно напротив того, объяснил товарищам, что так не годится делать.
– А сам зачем делал?
И вдруг замолчала. И с удивлением стала оглядываться. Большая комната. Все в ней блестело чистотою и уютом. Никелированная полутораспальная кровать с медными шишечками, голубое атласное одеяло; зеркальный шкаф с великолепным зеркалом в человеческий рост, так что хотелось в него смотреться; мягкий турецкий диван; яркие электрические лампочки в изящной арматуре.
Бася отрывисто спросила:
– Что это у тебя за мебельный магазин? Васенька покорежился. Бася подняла брови и изумленно взглянула на стену.
– А это что?!
Над диваном в красивых, совершенно одинаковых ореховых рамах висели рядком два портрета: портрет Ленина и – фотографически увеличенный собственный портрет Васеньки Царапкина с умным лицом.
– Два вождя на стене: Владимир Ленин и товарищ Царапкин! Ха-ха-ха!
Царапкин с неудовольствием возразил.
– Почему – «вождя»? Пришлось по случаю купить две рамки одинаковых, только всего и дела. А чго тебе из мебели тут не нравится?
– Ничего не нравится. Кокотки комната, а не комсомольца. Ты, случаем, уж не душишься ли?
– Кокотки тут ни при чем. И вообще я тебе удивляюсь, товарищ. При царском режиме рабочий жил, как свинья, – что же, и теперь мы должны жить так же? Я думаю, что рабочий должен повышать свой жизненный и культурный уровень, в этом и был смысл нашей великой революции.
– Да? – почтительно спросила Бася. Рассмеялась и встала. И смотрела с ненавистью.
– Я пришла с тобою говорить как с товарищем-революционером о твоем ошибочном поведении сегодня в цехе. А теперь вижу, что говорить нам с тобою не о чем. С тобою нужно бороться как с классовым врагом.
И вышла.
Из объявлений на задней странице газеты «Известия».
Гр-н ЦАРАПКИН Василий Алексеевич, уроженец города Москвы, меняет имя и фамилию Василий Царапкин на ВАЛЕНТИН ЭЛЬСКИЙ.
Лиц, имеющих препятствия к означенной перемене, просят сообщить в Мособлзагс, Петровка, 38, зд. 5, с указанием имени, отчества, фамилии и местожительства.
Лелька в воскресенье зашла вечером к Басе. Расхаживая по неуютной своей комнате широким мужским шагом и сильно волнуясь, Бася рассказала, как держался с нею на работе Царапкин. Когда Бася волновалась, она говорила захлебываясь, обрывая одну фразу другою.
– Этого оставить так нельзя. Нужно, понимаешь, вокруг этого дела чтобы забурлило общественное мнение. Чтоб широкие массы заинтересовались. Какое наглое рвачество! И комсомолец еще! Я поговорю в партийной ячейке. Думаю, – нельзя ли устроить над ним общественный суд, товарищеский, чтобы закрутить это дело в самой гуще рабочих масс.
Пили чай. С хохотом делились такими противоположными впечатлениями от посещения обиталищ Спирьки и Царапкина.
Лелька сказала:
– А я недавно присутствовала на занятиях твоего брата, как он ведет кружок по диамату.
Черные глаза Баси блеснули острым любопытством. Стараясь показаться безразличной, она спросила, глядя в сторону:
– Как тебе понравились его занятия?
– Замечательно! Прямо, профессор какой-то! Откровенно сказать, раньше он мне не нравился. А тут – замечательно! Видно, умница, и с собственным взглядом на все.
В глазах Баси мелькнула тайная радость. Она медленно сказала, сдвинув брови:
– Арон – это единственное пятно на моей революционной совести.
– Пятно?
– Позорнейшее. Из-за которого я не должна бы смотреть прямо в глаза ни одному честному товарищу. Ведь мы с ним дети самого форменного нэпмана, мучного торговца. Только я с пятнадцати лет порвала с родителями, ушла от них, поступила в комсомол. А он от родителей не отказался, жил с ними, на их иждивении. Совершенно аполитический. До социализма ему нет никакого дела. А я провела его рабочим на завод, помимо биржи, через свои связи. Представляешь себе, какой он закройщик передов! Поддержала его кандидатуру в комсомол… Но как же мне иначе быть? Ты понимаешь, ему необходимо поступить в вуз, он обязательно должен дальше учиться, я уверена, что из него получится великий мыслитель. Увы! Не вроде Маркса, но, во всяком случае, вроде Спинозы или Эйнштейна… А так в вуз ему не попасть. Два раза блестяще сдавал вступительные, – и за социальное происхождение не принимали. Но скажи, неужели нам не нужны свои Эйнштейны?
Что Арон аполитичен, это сразу настроило Лельку против него. И, оказывается, ему совсем все равно, придет ли социализм или нет. Она вспомнила усмешку в его губах, когда он излагал в своем кружке возражения Энгельса Дюрингу. Чего доброго, он, может быть, даже – идеалист!
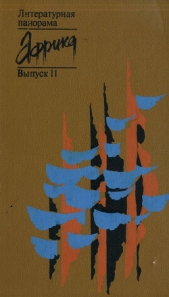

![В тупике [= Смеющийся полицейский] (журнальный вариант)](/uploads/posts/books/50237/50237.jpg)




















