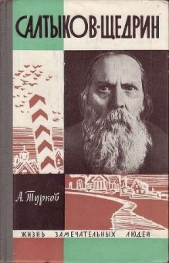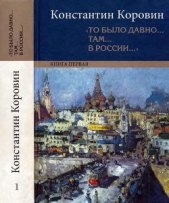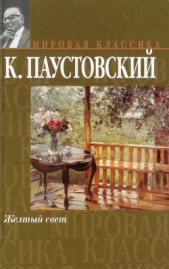Русь моя, жизнь моя

Русь моя, жизнь моя читать книгу онлайн
В этот том вошли многие стихотворения Александра Блока из составленного им «романа в стихах», пронзительные стихотворения о России, поэмы «Возмездие» и «Двенадцать», пьесы, проза разных жанров. Личность Александра Блока, его судьба в неразрывности жизни и литературы – вот объединяющая идея книги. Представлены также фрагменты его дневников и записных книжек, избранные письма, воспоминания современников о Блоке.
Печатаются все произведения поэта, включенные в основные российские школьные программы по литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потом – вершина Монмартра: весь Париж, окутанный дымом и желто-голубым зноем: купол Пантеона, крыши Оперы и очень тонкий, стройный и красивый чертеж Эйфелевой башни. Но Париж – не то, что Москва с Воробьевых гор. Париж с Монмартра – картина тысячелетней бессмыслицы, величавая, огненная и бездушная. Здесь нет и не могло быть своего Девичьего монастыря, который прежде всего бросается в глаза, – во главе Москвы; и ни одной крупицы московского золота и московской киновари– все черно-серое море и его непрестанный и бессмысленный голос. Поднимаешься на Монмартр, и все это становится понятным. Спустишься – и сейчас же начинаешь дремать среди улицы и даже бульвара. Минутами – жара и бессмыслица становятся гениальными.
Разные кабачки и café-concerts – почти сплошная плоскость. Кощунство привычное, порнография – способная произвести впечатление на гимназиста от III до V класса. Иногда – очень смешной водевиль или вдруг – поразительная песня, всегда старая (провансальская, например) или повторенная тысячу раз (например, из песен Ivette Gilbert). Почти все новое – бесстыдно пошло – и наивно.
Вследствие всего этого я уезжаю сегодня или завтра в Брюссель, а Люба через неделю уедет прямо в Петербург искать квартиру. – От Бельгии я многого не жду, однако хочу увидать 18 бегемотов в зоологическом саду в Антверпене – и Брюгге. Из Брюгге поеду на родину – в Амстердам и, может быть, еще по Голландии. Оттуда, надеюсь, через Гамбург – в Копенгаген, Эльсинор, а оттуда уже – в Берлин, куда ты и напиши мне (р. r.). В Берлине я буду во всяком случае.
Господь с тобой.
Саша.
Матери
29 ноября 1911. <Петербург>
Мама, вчера я был зол оттого, что мне было очень тяжело еще. Сегодня сгладились все воспоминания об ужасах Мариинского театра, и осталась одна «Хованщина».
«Хованщина» для меня, оказывается, сыграла очень большую роль. Сегодня я совсем другой, чем вчера. Надеюсь, что начну опять оправляться от того удара, который был кем-то нанесен мне внутренно на той неделе. Источник я еще не знаю, но начинаю подозревать.
«Хованщина» еще не гениальна (т. е. не дыхание святого Духа), как не гениальна еще вся Россия, в которой только готовится будущее. Но она стоит в самом центре, именно на той узкой полосе, где проносится дыхание Духа. То, что она идет в придворном театре, – правильно, она откровение только для нас, которым следует постоянно напоминать, у которых память еще детская, короткая. Мы еще этого не затвердили. Для раскольников – это азбука, уже лишняя, может быть, даже докучная, как для народа – наши «народнические» волнения и мероприятия.
Господь с тобой.
Саша.
Матери
13 июня 1915. <Петроград>
Мама, по поводу сдачи Львова и прочих событий я обратился к истории Ключевского. Его обобщения действуют оздоровляюще, хотя они довольно печальны. В конце концов, с Петра прошло только двести лет, и многое с тех пор не переменилось. И Петр бывал в беспомощном положении до смешного, затягивая шведов к Полтаве, а Кутузов затягивал Наполеона к Москве, когда Пушкину было тринадцать лет; к тому же очень уж ясна перемена нашей тактики, так что на очищение Галиции смотришь иначе, чем смотрел бы недели три назад. Есть слухи о серьезных (наконец!) укреплениях нашего фронта, хотя и на нашей территории.
Люба разговаривала с представителями рабочих Путиловского завода, и все, что она рассказывала об этом, показывает мне, что она попала в хорошее и большое дело. Завтра предстоит играть, так что Любу уж тошнит от страха.
Я проехал как-то вверх по Неве на пароходе и убедился, что Пет<ербург>, собственно, только в центре … немецкий; окраины – очень грандиозные и русские – и по грандиозности и по нелепости, с ней соединенной. За Смольным начинаются необозримые хлебные склады, элеваторы, товарные вагоны, зеленые берега, громоздкие храмы, и буксиры с именами «Пророк», «Воля» режут большие волны, Нева синяя и широкая, ветер, радуга.
Сочиняю автобиографию и повадился ходить к букинисту, у которого скупаю десятки интересных книг по пятаку. Вчера встретил С. М. Зарудного (сенатор и цыганист, друг Художественного театра), который, проводив Книппер, шатался без дела. Я его завез к себе. Он читал очень хорошо стихи Вольтера, нарисовал меня (совсем не похоже) и рассказал анекдот о том, как К. Р. просил его раз прочесть мои стихи. Он прочел «Незнакомку», * К. Р. возмутился; когда же он прочел «Озарены церковные ступени», К. Р. нашел, что это лучше. Очевидно, уловил родственное, немецкое.
Встретил я еще Зоргенфрея, гулял с ним и сидел в кофейне.
Любовь Александровна была у меня вчера (хотя и написала тебе, кажется, что меня не видит).
Господь с тобой.
Саша.
Письма, которые ты переслала, я получил – разные литературные предложения.
А. А. Ахматовой
14 марта 1916. <Петроград>
Многоуважаемая Анна Андреевна.
Хоть мне и очень плохо, ибо я окружен болезнями и заботами, все-таки мне приятно Вам ответить на посылку Вашей поэмы. Во-первых, поэму ужасно хвалили разные люди и по разным причинам, хвалили так, что я вовсе перестал в нее верить. Во-вторых, много я видел сборников стихов, авторов «известных» и «неизвестных»; всегда почти – посмотришь, видишь, что, должно быть, очень хорошо пишут, а мне все не нужно, скучно, так что начинаешь думать, что стихов вообще больше писать не надо; следующая стадия – что я стихов не люблю; следующая – что стихи вообще – занятие праздное; дальше – начинаешь уже всем об этом говорить громко. Не знаю, испытали ли Вы такие чувства; если да, – то знаете, сколько во всем этом больного, лишнего груза.
Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они – не пустяк, и много такого – отрадного, свежего, как сама поэма. Все это – несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши «вовсе не знала», «у самого моря», «самый нежный, самый кроткий» (в «Четках»), постоянные «совсем» (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). Тоже и «сюжет»: не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо «экзотики», не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больнее. – Но все это – пустяки, поэма настоящая, и Вы – настоящая. Будьте здоровы, надо лечиться.
Преданный Вам Ал. Блок.
Матери
23 марта 1917 <Петроград>
Мама, три дня я просидел, не видя никого, кроме тети, сознавая исключительно свою вымытость в ванне и сильно развившуюся мускульную систему. Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире и в истории зрелище, на веселых и подобревших людей, кишащих на нечищеных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что все можно, грозное, захватывающее дух и страшно веселое. Может случиться очень многое, минута для страны, для государства, для всяких «собственностей» – опасная, но все побеждается тем сознанием, что произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно.
Ничего не страшно, боятся здесь только кухарки. Казалось бы, можно всего бояться, но ничего страшного нет, необыкновенно величественна вольность, военные автомобили с красными флагами, солдатские шинели с красными бантами, Зимний дворец с красным флагом на крыше. Выгорели дотла Литовский замок и Окружной суд, бросается в глаза вся красота их фасадов, вылизанных огнем, вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. Ходишь по городу как во сне. Дума вся занесена снегом, перед ней извозчики, солдаты, автомобиль с военным шофером провез какую-то старуху с костылями (полагаю, Вырубову – в крепость). Вчера я забрел к Мережковским, которые приняли меня очень хорошо и ласково, так что я почувствовал себя человеком (а не парнем, как привык чувствовать себя на фронте). Обедал у них, они мне рассказали многое, так что картина переворота для меня более или менее ясна: нечто сверхъестественное, восхитительное.