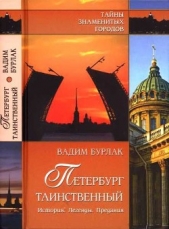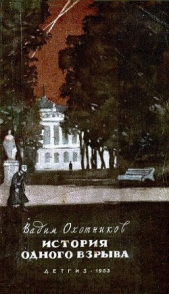История одного путешествия

История одного путешествия читать книгу онлайн
Книга Вадима Андреева, сына известного русского писателя Леонида Андреева, так же, как предыдущие его книги («Детство» и «Дикое поле»), построена на автобиографическом материале.
Трагические заблуждения молодого человека, не понявшего революции, приводят его к тяжелым ошибкам. Молодость героя проходит вдали от Родины. И только мысль о России, русский язык, русская литература помогают ему жить и работать.
Молодой герой подчас субъективен в своих оценках людей и событий. Но это не помешает ему в конце концов выбрать правильный путь. В годы второй мировой войны он становится участником французского Сопротивления. И, наконец, после долгих испытаний возвращается на Родину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То, что Ремизов в 1946 году просил и получил советский паспорт, было совершенно естественным: за границей Ремизов не мог и не должен был жить. Несчастье было в том, что паспорт был получен, когда он был уже стар и болен, после смерти жены еще более беспомощен, чем когда бы то ни было. К концу жизни — он умер в 1957 году — Ремизов почти ослеп.
Особенности ремизовской прозы выросли из самых глубин русского языка.
«Трафарет всегда бесплоден, а жаргонист всегда фальшив. Природный лад живой речи неизменен, а народная речь непостоянна, и словарь народных слов меняется в зависимости от слуха и памяти, память же выбирает не характерное, а доступное для подражания» («Огонь вещей», стр. 25. Париж, 1954).
Однако «поиски природного лада живой речи», возврат к языку XVII века, еще не засоренному западным словесным нашествием, непривычность для современного уха ремизовской прозы воздвигали между стилистом и читателем стену. От Ремизова с самого начала его заграничной жизни отворачивались, его не понимали. Для большинства издававшихся в Берлине или Париже журналов и газет он был грузом, от которого не знали, как избавиться. Вообще заниматься поисками нелегко, а на чужой земле, то есть в мире, где говорят на другом языке, где неизбежно портится речь, где самые избитые языковые штампы и трафареты начинают казаться чем-то новым, — дело почти безнадежное. Нужен был талант Ремизова для того, чтобы не только сохранить, но и усовершенствовать свой стиль, создать такие вещи, как «В розовом блеске», «Подстриженными глазами», «Огонь вещей», «Мышкина дудочка», «В сырых туманах».
Формула «писатель для писателей», в сущности, никогда не бывает исчерпывающей. Она применялась к Хлебникову, даже к Пастернаку, но в том и другом случае эти слова указывают лишь на степень влияния поэта на своих современников, на те случаи, когда формальное новаторство не проходит бесследно. Конечно, Ремизов оказал большое влияние на целый ряд писателей — свидетельства А. Н. Толстого, Пришвина, Пильняка. Творчество Ремизова идет от Гоголя, Достоевского, Лескова. Писатель страстный и пронзительный, он считал, что сцена приезда матери к сыну в «Подростке» — по ощущению человеческой неоправданной боли — не превзойдена в русской литературе. Книги Ремизова посвящены жалости к человеку, сочувствию к человеческому достоинству, попираемому страшной силой зла. Его творчество — отчаянная попытка помочь маленькому и ничем не замечательному человеку.
В Берлине А. М. Ремизова я в первый раз увидел и услышал в ателье художника Н. Зарецкого, где изредка устраивались литературные вечера. Здесь бывали Архипенко, Ларионов, Богуславская, Пуни, Минчин, Терешкович, Шаршун, который писал не только дадаистические рассказы, но и картины. В тот вечер Алексей Михайлович читал отрывки из «Взвихренной Руси», книги, над которой он тогда работал. Конечно, по двум-трем отрывкам я не мог судить обо всей книге, но то, что я услышал, произвело на меня огромное впечатление: живой и громкий голос человека, искреннего свидетеля огромных событий. Впоследствии я нашел в «Взвихренной Руси» отрывок, прямо отвечавший на те мысли, которые меня тогда волновали: он называется «К звездам» — памяти А. А. Блока:
«А знаете, это я теперь тут узнал, за границей, что для русского писателя тут, пожалуй, еще тяжче, и писать не то что невозможно — ведь только в России совершается что-то, а тут — для русского-то — «пустыня»…»
Поразил меня весь тон и ритм ремизовской прозы. Когда Ремизов читал, — впоследствии, в Париже, устраивались ежегодные чтения, причем Алексей Михайлович читал не только свои произведения, а отрывки из Гоголя, Лескова, Достоевского, Толстого, — читаемая им вещь, даже если она была знакома со школьной скамьи, становилась неузнаваемой. Ремизов преображал ее, находя неожиданный, до сих пор никем не уловленный ритм; его голос делал видимым каждое произносимое им слово. Это было меньше всего театральным чтением, он не вбивал в голову слушателя смысл фразы, но, уловив ее внутреннюю музыку, околдовывал своим сильным голосом, столь неожиданным в этом маленьком человеке, переполненный вал гостиницы «Лютеция», даже тех, кто, может быть, в первый раз в жизни слышал пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке».
Весь собранный, сгорбленный, с топорщащимся ежиком седеющих волос, защищенный от мира выпуклыми стеклами очков (только вот над очками взлетевшие восклицательными знаками черные брови — то ли угроза, то ли зов погибающего?), Ремизов, читая, вдруг превращался сам в гоголевского Вия или в толстовского старца, повторяющего свою упрощенную молитву: «Трое вас, трое нас, помилуй нас».
В тот вечер в ателье Зарецкого я увидел Блока, услышал, голос Достоевского — настолько была велика сила ремизовского чтения.
Когда Ремизов отложил в сторону рукопись и в ателье начался шум общего разговора, — помнится, никто не выступал с разбором прочитанного, — я подошел к нему, чтобы лучше ею рассмотреть. При моем приближении он снял очки, причем снял их как-то особенно, вцепившись крепкими, мужицкими пальцами в черепаховые дужки — только бы не потерять! — и превратился в русского лешего, заблудившегося в Берлине. Я вспомнил, что Блок посвятил «Болотных чертеняток» Алексею Михайловичу:
С первого взгляда в Ремизове поражала его необычайная русскость, его нерушимая связь со своей землей, с Андроньевым монастырем в Москве (так говорил сам Алексей Михайлович, не Андрониковым, как говорят теперь), у стен которого прошло все его детство, с самой сутью русской старины, полной суеверий, нежити и странного сплетения языческих и христианских легенд. Ремлизов был именно тем, о чем говорит Шекспир в «Макбете» и что Блок взял эпиграфом к «Пузырям земли»:
Повторяю: жизнь такого человека за границей не могла не быть сплошным недоразумением.
О трудной жизни Алексея Михайловича, о его непрерывной борьбе за право писать так, как ему представлялось необходимым, о том, как он издавал свои книги, ставшие теперь библиографической редкостью, а при его жизни камнем лежавшие на складах, о Серафиме Павловне, его жене, сыгравшей столь большую роль в его жизни, о том, что он написал о самом себе: «Я знаю, жалостью моей ничего не поправишь и никому от нее не станет легче, я знаю, знаю — и не могу примириться, мне всегда как-то стыдно, как это можно добровольно от всего отказаться и добровольно себе приют найти на свалке, а последний приют под забором…» — обо всем этом — позже, когда я расскажу о десятилетиях, прожитых мною в одном с Ремизовым городе — Париже. Теперь приведу лишь о дня коротенький рассказ о том, как Алексей Михайлович я Пришвин спорили о названии ремизовской повести «Неуемный бубен». Дело происходило в Москве в 1909-м, кажется, году, в трамвае. Пришвин решительно не соглашался с названием:
— Ничего это не значит. Неуемный дождь, как у Горького, — это верно, а неуемный бубен…