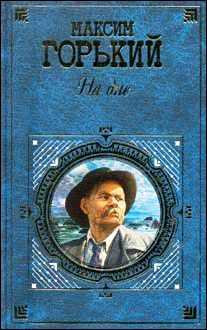Том 9. Жизнь Матвея Кожемякина

Том 9. Жизнь Матвея Кожемякина читать книгу онлайн
В девятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1909–1912 годах. Из них повести «Городок Окуров» и «Жизнь Матвея Кожемякина» входили в предыдущие собрания сочинений писателя. Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким, в последний раз — при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов. Включённое в том произведение «Большая любовь» не было закончено автором и было известно читателям лишь по небольшому отрывку, появившемуся в печати до Октябрьской революции. В настоящем издании это произведение, примыкающее по своему содержанию непосредственно к «окуровскому циклу», впервые печатается так полно, как это позволяют сделать сохранившиеся рукописи М. Горького.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Во-от она чего за ним следила! Подстерегла-таки, — умница!»
Над провалившейся крышей бубновского дома ясно блестел серп луны, точно собираясь жать мелкие, редкие звёзды. Лаяли собаки, что-то трещало и скрипело, а в тени амбара хрустнул лёд и словно всхлипнули.
— Это вы? — вздрогнув, спросил Матвей.
— Я, — не сразу ответила постоялка и, высокая, чёрная, вышла на свет. — Что это трещит?
— Видно, бедные подобрались, Бубновых дом обдирают на топливо, — объяснил он, глядя на неё с уважением и оттенком того чувства, которое раньше вызывал в нём ведун Маркуша.
— Просто как всё у вас, — тихо сказала женщина.
— Выморочное, охранять некому…
И, заглянув в бледное её лицо, осторожно спросил:
— Обидел вас Маркуша-то?
— Да-а, — опустясь на ступень крыльца, заговорила она. — То есть — не обидел, но… не знаю, как сказать. Мне всегда казалось, что говорит он бездушно, — со скрытой усмешкой, не веря в свои слова. Я много встречала народа, — мужики вообще скрытны, недоверчивы, — после этих встреч в душе остаётся что-то тяжёлое, непонятное, — а вот сегодня выяснилось… — Она замолчала на секунду и вдруг тихо, точно упрашивая кого-то, вскрикнула: — Очень хочется, чтобы я ошиблась! Страшно это! Вспомнились ваши записки — мёртвое мыло и всё…
«Что она говорит?» — думал Кожемякин, напряжённо вслушиваясь в её слова.
— Прогоню я его!
Она болезненно воскликнула:
— Ну, вот! Эх, какой вы…
— Обидно очень! — объяснял Матвей. — Бывало — слушаешь его, удивление такое в душе: всё человек знает, всё объясняет, а он — вон как, просто — болтал…
— Вы не можете представить себе, — заговорила постоялка, точно жалуясь, как недавно Маркуша жаловался, — до чего это поразительно, — неверие его! Когда не верят образованные люди — знаете, есть и были такие — думаешь: ну, что ж? Хилые цветы! А ведь он — почва, он — народ… и не один десяток лет внушал людям то, во что не верил, это ужасно! Я не знала, что такие люди есть, а теперь мне кажется, что я видела их десятки, — таких, которые, говоря да и нет, говорят — отстань! Какой страшный внутренний разрыв человека с людьми, с миром! Всё равно, что сказать людям, лишь бы оставили в покое, — в каком покое? Среди образованных не верующие ни во что всё-таки хоть в себя верили, в свою личность, в силу своей воли, — а ведь этот себя не видит, не чувствует! Вспомните, как он говорил о долях! Какое безмерное, глубочайшее и невозмутимое отчаяние, — вы понимаете?
Нет, он плохо понимал. Жадно ловил её слова, складывал их ряды в памяти, но смысл её речи ускользал от него. Сознаться в этом было стыдно, и не хотелось прерывать её жалобу, но чем более говорила она, тем чаще разрывалась связь между её словами. Вспыхивали вопросы, но не успевал он спросить об одном — являлось другое и тоже настойчиво просило ответа. В груди у него что-то металось, стараясь за всем поспеть, всё схватить, и — всё спутывало. Но были сегодня в её речи некоторые близкие, понятные мысли.
— Живёшь, живёшь и вдруг с ужасом видишь себя в чужой стране, среди чужих людей. И все друг другу чужды, ничем не связаны, — ничем живым, а так — мёртвая петля сдавила всех и душит…
— Вот! Действительно — петля!
— Хочется заполнить эту яму между тобою и людьми, а она становится всё шире, глубже…
— Глубже? Да…
Эти понятные куски её речи будили в нём доверие к ней, и когда она на минуту замолчала, задумалась, он вдруг оглянулся, как бы опасаясь, чтобы кто-то чужой не подслушал его, и спросил:
— Евгенья Петровна, скажите вы мне, как это случилось, что вот вы русская и я русский, а понимать мне вас трудно?
Она быстро обернулась к нему.
— Трудно?
— Очень! Некоторые слова…
— Ах, что слова! — скорбно воскликнула она. — Но — понятно ли вам, что я добра хочу людям, что я — честный человек?
Он по совести ответил:
— Да, честный, иначе я думать про вас не могу, ей-ей!
И готов был перекреститься.
— Спасибо! — тихонько сказала она, схватив его руку. Потом, оглянув двор и небо, — поёжилась.
— Страшновато у вас и холодно.
— Пойдёмте в горницу! — умоляюще предложил он, и когда она, безмолвно поднявшись на ноги, пошла впереди, — его охватило жаром светлое предчувствие новых дней.
Задумчиво расхаживая по комнате, она говорила, высоко подняв брови:
— Это тоже ужасно… и очень верно: вы русский, я русская, а говорим мы — на разных языках, не понимая друг друга…
Сидя на лежанке, он внимательно следил за игрою её лица, сменой удивления, тревоги и тоски, а сердце билось: «Вот, сегодня, сегодня!..»
Он видел, что сегодня эта женщина иная, чем в тот вечер, когда слушала его записки, — не так заносчива, насмешлива и горда, и тревога её речи понятна ему.
«Ага, почуяла?» — думал он, немножко торжествуя, но больше жалея её.
Она вздрагивала, куталась в шаль, часто подносила руки к вискам, и на щеке у неё трепетала тёмная прядь волос.
— Я тоже не понимаю вас, — слышал он. — С виду вы такой, простите, обыкновенный…
«За что — простить?» — думал Матвей.
— И вдруг — эти неожиданные, страшные ваши записки! Читали вы их, а я слышала какой-то упрекающий голос, как будто из дали глубокой, из прошлого, некто говорит: ты куда ушла, куда? Ты французский язык знаешь, а — русский? Ты любишь романы читать и чтобы красиво написано было, а вот тебе — роман о мёртвом мыле! Ты всемирную историю читывала, а историю души города Окурова — знаешь?
Она глухо засмеялась.
— Точно я птицей была в тот вечер, поймали вы меня и выщипывали крылья мне, так, знаете, не торопясь, по пёрышку, беззлобно… скуки ради… Пошла я на другой день гулять, вышла за город и с горки посмотрела на него какими-то новыми глазами. Лежит на снегу паучье гнездо, и невидимо тянутся от него во все стороны к деревням эти паутинки, — ваши окуровские, липкие мысли, верования, ядовитая пена мёртвого мыла! Тянутся далеко и опутывают, отравляют множество людей дикими суевериями, тупой, равнодушной жестокостью. Этот ваш страшный мудрец — как его?
— Базунов? — хмуро подсказал Матвей.
Её слова о городе вызвали в нём тень обиды: он вспомнил, каким недавно представился ему Окуров, и, вздохнув, сказал:
— Городок, конечно, маленький, ну и думы наши маленькие…
А она, закинув руки за голову, тихонько воскликнула:
— Ах, как жалко, что я женщина!
Что-то знакомое ему прозвучало в этих словах.
— Отчего — жалко?
— Это очень мешает иногда, — сказала постоялка задумчиво. — Да… есть теперь люди, которые начали говорить, что наше время — не время великих задач, крупных дел, что мы должны взяться за простую, чёрную, будничную работу… Я смеялась над этими людьми, но, может быть, они правы! И, может быть, простая-то работа и есть величайшая задача, истинное геройство!
И вдруг снова закружился хоровод чуждых мыслей, непонятных слов. Казалось, что они вьются вокруг неё, как вихрь на перекрёстке, толкают её, не позволяя найти прямой путь к человеку, одиноко, сидевшему в тёмном углу, и вот она шатается из стороны в сторону, то подходя к нему, то снова удаляясь в туман непонятного и возбуждающего нудную тоску.
«Не со мною, сама с собою говорит она! — думал Кожемякин. — Маркушка-то не совсем, видно, ошибся…»
И когда она ушла, — как-то вдруг, незаметно, точно растаяла, — он сначала почувствовал, что её речи ничего не оставили в нём ясного и прочного, а только путаницу незнакомых слов.
Но — ошибся: с этого вечера он начал думать о ней смелее, к этим думам примешивалось что-то снисходительное и жалостливое — ему стала ведома её слабая сторона.
«Страшновато? В чужой земле? — вспоминал он её слова и печально усмехался, чувствуя себя в чём-то сильнее её. — То-то вот!»
На другой день утром Боря, сбежав к нему, сказал, что мама захворала и не встанет сегодня.
— Да ну-у? — пугливо воскликнул Матвей.
Он смело пошёл наверх, но, войдя в маленькую комнатку с потолком, подобным крышке гроба, оробел.