Том 9. Учитель музыки
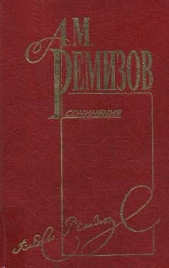
Том 9. Учитель музыки читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Что же такое совесть? Какая цена этому последнему решающему голосу – «демону», осуждающему или оправдывающему человеческие поступки? Столько ли на свете совестей, сколько изворотов «мерзавных» мерзостей? И совестливый человек с «угрызением» совести и бессовестный без всяких угрызений – какая разница? Ведь то, что для Лескова «мерзавные мерзости», для Домны Платоновны – доброе дело, и «совестливая» Страсбургская хозяйка, спокойно принявшая от Петушковых последние их деньги, какая разница от какого-нибудь «бессовестного» стрелка, который на вокзале вытащил бы у Петушковых из кармана? И, может, лучше было бы оставить это деление на «совестливых» и «бессовестных» и перестать ссылаться, как на что-то безупречное и вне подозрений «обнаженную совесть» человека. И что говорит ему его собственная совесть? – зачем эта вся его «несгораемая» затея: сохранить тленный позор – изнанку человеческого нутра с потрохами и духом? и что для него и кому что от этого – ничего не изменится!»
И совесть его жаловалась: ее словами повторял он над своей «несгораемой» тетрадью: «я не хочу – я знаю – и не только человеческий позор».
Если человеческий «позор» для кого-то может быть добром, значит, «добро», которое хочет человеку человек сделать, может быть самым настоящим злом. Домна Платоновна сводит Леканиду с «генералом», оберегая ее от проституции и избавляя от последней крайности по формуле: «любовь и польза»! Но и еще: всякое «доброе» дело вызывает, кроме благодарности, конечно, если оно, действительно, – по человеку доброе, еще и чувство зависти и обиды у обойденных, а такие всегда будут. Благотворительный концерт, с которого мне ничего не попало!
И вот, когда совесть Корнетова, жалуясь, говорит, что не хочет «позора», и что знает и не только этот позор человеческий, – но что же? что еще знает его совесть? – я договорю: боль, – боль, это чистейшее чувство – горький цвет жизни. Незабываемые страницы Толстого, Гоголя, Достоевского пронизаны этой болью: боль – это музыка, и без этой музыки – книга только сухая печатная бумага.
Я сегодня, как раненный этим чистейшим чувством, точно мне душу прокололи, и вот она встрепенулась, и я смотрю на свет, как в первый раз, и все повторяю, как вдруг опомнившийся, что всю мою жизнь я только об этом и рассказывал, но только теперь понял, что это и есть самое важное – именно боль – горький цвет жизни. И горечь его цветет везде, где только есть жизнь. И эта собака, я так ее ясно вижу, как она облизывается покорно: ждала неделю, другую, третью, – обыкновенно ей присылали сухариков, очень вкусные! но хозяин ее поссорился и не видится с тем знакомым, который присылал сухарики; ведь собака не скажет, но она поняла, что поссорились, и покорилась – больше ждать нечего! но в этом ее облизывающемся покорстве, в этих глазах ее, которые скажут, не язык, – я чувствую боль. Русская дама рассказывала своей соседке в трамвае про свою сестру, оставшуюся в Петербурге, как за эти годы она ослепла, – «и все на ней истлело, вся в паутине!» – и я представил себе, как бы видел ее так ясно до боли, ослепшую, и как, покинутая, она шарит рукой – и все ее безответные мольбы, и все ее, ей надорвавшие сердце, проклятия, – и как затихла и ее закрыла паутина, я чувствовал всю ее боль до последней боли затихшего человека в паутине, – она тоже от своей тлеющей боли облизывается, как собака! Барышня к празднику убирала комнату – стряхивала пыль с книг, и надо ей на стул стать, она сняла с себя туфли – я вошел в комнату, когда она, стоя на стуле, перетирала тряпкой книги на верхней полке, и я сразу увидел ее дырявые заштопанные чулки, – когда она была в туфлях, это было совсем незаметно, но теперь, – из этой заштопки «глядела такая бедность», и от этих бедных глаз весь мир для меня, как затрелил, и я узнал эту музыку, – боль. Вот уж который вечер, проходя мимо нашей консьержки, я вижу, как сидит она, глубоко задумавшись, у стола над тетрадкой, а по сторонам ее дети терпеливо, два мальчика с тоненькими носиками, как рисуются иллюстрации к сказкам, два суслика. Я сегодня не утерпел и вошел к ней посмотреть, над чем это она так убивается, – и оказалось: «проблэм» – решает задачу, задача немудреная, но ей-то, едва грамотной, – задача эта неразрешимая, и когда она мне все это объяснила, смотря на меня мучительно безнадежно, и я видел, что вот-вот заплачет, и рядом этих сусликов, которых для теплоты она кладет головой к радиатору, и наутро они выскакивают и как очумелые бегают, этих сусликов, для которых она старается, но не знает правил и не может решить задачу, а надо, – завтра спросят… и вдруг знакомое чувство забарабанило меня и зазвучало, и я узнал этот голос – это боль. Я метался, как это часто со мной в метро, перепутав направление, и вижу Мордасов – я ему очень обрадоватся: он-то мне точно скажет. История Мордасова очень обыкновенная: еще в Петербурге поступил репетитором, решал детям – двум сусликам – задачи, а кончилось тем, что мать сусликов разошлась с мужем, и в революцию он с ней и с сусликами приехал в Париж. Мордасов человек смирный, домашний, но не может видеть равнодушно ни одну «юбку», – такое тоже очень обыкновенное, ну, «не может». Тринадцать лет жил он хорошо, над задачами голову не ломал, суслики выросли, спокойно, и всегда одет чисто, – у жены были деньги, – а тут вдруг вижу пальто на нем рыжее – то самое, в котором в революцию в Париж приехал, зачем-то хранили, – это пальто меня страшно поразило, и я вспомнил, зимой кто-то рассказывал, что Мордасов разошелся, т. е. попросту, его выгнали… И когда я спросил, как он живет, а сам подумал, что вот выгнали… «По случаю кризиса – сказал он, отвечая на мои мысли, и видно было, тяжелая жизнь наступила после тринадцати лет ничего неделания, – по случаю кризиса!» – и облизнулся, как та собака, где «поссорились». И на меня как блеснуло – и я узнал этот свет – горький цвет – боль.
Боль – она и в большом дыхании – в весеннем благословении жизни – в этом «Да воскреснет Бог» – в гимне воскресению – и в вое ветра, который я слушаю, присмирев, и в моей жгучей памяти, и в лунном затишье, и в ночных голосах «чистого поля», – я узнаю ее голос, и с голосом мне светит горький цвет жизни, без которого нет жизни. И вот перед лицом этой боли я становлюсь на колени и прошу, – о чем прошу, не знаю, – и о чем просить и чего хотеть, глядя в пустые безответные глаза?
3. Шиш еловый
Корнетов терпеть не мог начатых и незаконченных дел. Неоконченные постройки, недописанные строки, на полуслове остановившийся разговор – все, где не хватает воли или выдумки, вызывало в нем возмущение. Представьте себе, как возмущала его легенда о Вавилонской башне…
«В последнюю минуту, – говорил он, – общий язык потеряли, кто в лес, кто по дрова, и пропало дело – величайшее и единственное, когда-либо возникавшее в голове человека: хозяйничать на земле и на небе! – и с такими несметными средствами все пошло прахом в вечный укор человеку».
«О этом человеке, – продолжал Корнетов, – Гоголь отозвался: «свиные рыла», а Достоевский – «глупые зверские хари», да при этом еще «указующие на тебя пальцем». Я не согласен: и не зверские, и не свиные, а человеческие, только человеческие. А вообще говоря, во всяком человеке надо подозревать свинью…»
И всякое «недо…» – «недостройки» и «недосказы» называл Корнетов «куснуть и бросить». Тут он был сущий тиран и истребитель. И действовал беспощадно. Если бы была у него власть, ну будь он каким-нибудь Си-Магомет-Эль-Мокри, по струнке которого, в обаянии его воли, движутся и останавливаются «массы», круто пришлось бы, ни на что не посмотрит, и не разжалобишь, – и какая невероятная скучища поползла бы в мире или, просто говоря, загнал бы.
«Принудительный труд! теперь это модная тема, – говорил Корнетов, – в богатых салонах, где ломится всякая прислуживающая и выслуживающаяся сволочь, животрепещущий вопрос, благо самим можно ничего не делать. «Принудительный!» – скажите, пожалуйста, какое открытие, или о чем ни болтать, лишь бы болтать… Человек лодырь, это всякий про себя знает, а ума ни на столечко, чтобы, свою же выгоду соображая, без палки что-нибудь делать, и по доброй воле – век будете ждать, не дождетесь, чтобы пальцем шевельнул. Да впрочем так оно везде велось и ведется и не мытьем, так катаньем, всегда было и есть «принуждение». И это в самой природе жизни на проклятой Богом земле, пока человек есть человек, у которого не хватило воли, а был случай, землю соединить с небесами – снять с земли ее отверженность, освободить и сделать себя свободным. А пока что, Блейк прав: «один закон для льва и вола – принуждение». И если говорить по совести, чего бы я сам хотел, так скажу прямо: ничего! и вовсе я не чувствую себя околевающим животным, которое ищет уединения и только уединения, чтобы околеть, нет, у меня вдруг закипает такое сердце… впрочем, все равно, делать-то я ничего не хочу – хочу «баклуши бить», «в потолок плевать» или, есть еще «гонять собак», а по-современному – газеты, кафе, театры, выставки, путешествовать и безответственно философствовать, т. е. вести жизнь, как «хорошие люди», перед которыми ломают шапки и которым говорят «приветственные речи» и для которых только «первые места».
























