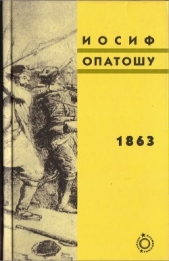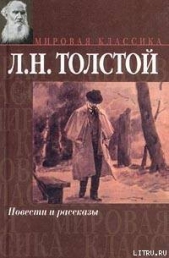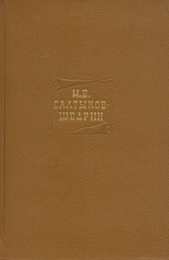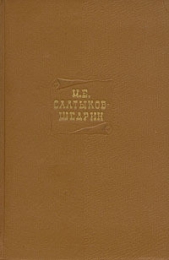Том 3. Произведения 1857-1863 гг

Том 3. Произведения 1857-1863 гг читать книгу онлайн
В том вошли повести и рассказы 1857–1863 гг. Среди них — «Альберт», «Три смерти», «Семейное счастие», «Казаки», «Поликушка» и др.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Очень больно было? — повторил Оленин, полагая, что теперь он добился наконец ответа на свой вопрос.
— Разве я тебе говорю, что больно. Не больно, а разогнуться нельзя, ходить не давало.
— Ну и зажило? — сказал Оленин, даже не смеясь: так ему было тяжело на сердце.
— Зажило, да пулька все тут. Вот пощупай. — И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька.
— Вишь ты, так и катается, — говорил он, видимо утешаясь этою пулькой, как игрушкой. — Вот к заду перекатилась.
— Что, будет ли жив Лукашка? — спросил Оленин.
— А бог его знает! Дохтура нет. Поехали.
— Откуда же привезут, из Грозной? — спросил Оленин.
— Не, отец мой, ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашева не-человеком сделали, ногу отрезали. Стало, дураки. На что теперь Баклашев годится? Нет, отец мой, в горах дохтура есть настоящие. Так-то Гирчика, няню моего, в походе ранили в это место, в грудь, так дохтура ваши отказались, а из гор приехал Саиб, вылечил. Травы, отец мой, знают.
— Ну, полно вздор говорить, — сказал Оленин. — Я лучше из штаба лекаря пришлю.
— Вздор! — передразнил старик. — Дурак, дурак! Вздор! Лекаря пришлю! Да кабы ваши лечили, так казаки и чеченцы к вам бы лечиться ездили, а то ваши офицеры да полковники из гор дохтуров выписывают. У вас фальчь, одна все фальчь.
Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальчь в том мире, в котором он жил и в который возвращался.
— Что ж Лукашка? Ты был у него? — спросил он.
— Да лежит, как мертвый. Не ест, не пьет, только водку и принимает душа. Ну, водку пьет, — ничего. А то жаль малого. Хорош малый был, джигит, как я. Так-то я умирал раз: уж выли старухи, выли. Жар в стоял. Под святые меня сперли. Так-то лежу, а надо мной на печке всё такие, вот такие маленькие барабанщики всё, да так-то отжаривают зорю. Крикну на них, они еще пуще отдирают. (Старик засмеялся.) Привели ко мне бабы уставщика, хоронить меня хотели; бают: он мирщился, с бабами гулял, души губил, скоромился, в балалайку играл. Покайся, говорят. Я и стал каяться. Грешен, говорю. Что ни скажет поп, а я говорю все: грешен. Он про балалайку спрашивать и стал. И в том грешен, говорю. Где ж она, проклятая, говорит, у тебя? Ты покажь да ее разбей. А я говорю: у меня и нет ее. А сам ее в избушке в сеть запрятал; знаю, что не найдут. Так и бросили меня. Так отдох же. Как пошел в балалайку чесать… Так что бишь я говорил, — продолжал он, — ты меня слушай, от народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, я тебя люблю. А то ваша братья всё на бугры ездить любят. Так-то у нас один жил, из России приехал, все на бугор ездил, как-то чудно холком бугор называл. Как завидит бугорок, так и поскачет. Поскакал так-то раз. Выскакал и рад. А чеченец его стрелил, да и убил. Эх, ловко с подсошек стреляют чеченцы! Ловчей меня есть. Не люблю, как так дурно убьют. Смотрю я, бывало, на солдат на ваших, дивлюся. То-то глупость! Идут, сердечные, все в куче да еще красные воротники нашьют. Тут как не попасть! Убьют одного, упадет, поволокут сердечного, другой пойдет. То-то глупость! — повторил старик, покачивая головой. — Что бы в стороны разойтись да по одному. Так честно и иди. Ведь он тебя не уцелит. Так-то ты делай.
— Ну, спасибо! Прощай, дядя! Бог даст, увидимся, — сказал Оленин, вставая и направляясь к сеням. Старик сидел на полу и не вставал.
— Так разве прощаются? Дурак! дурак! — заговорил он. — Эхма, какой народ стал! Компанию водили, водили год целый: прощай, да и ушел. Ведь я тебя люблю, я тебя как жалею! Такой ты горький, все один, все один. Нелюбимый ты какой-то! Другой раз не сплю, подумаю о тебе, так-то жалею. Как песня поется:
Так-то и ты.
— Ну, прощай, — сказал опять Оленин.
Старик встал и подал ему руку; он пожал ее и хотел идти.
— Мурло-то, мурло-то давай сюда.
Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.
— Я тебя люблю, прощай!
Оленин сел в телегу.
— Что ж, так и уезжаешь? Хоть подари что на память, отец мой. Флинту-то подари. Куды тебе две, — говорил старик, всхлипывая от искренних слез.
Оленин достал ружье и отдал ему.
— Что передавали этому старику! — ворчал Ванюша. — Все мало! Попрошайка старый. Все необстоятельный народ, — проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке.
— Молчи, швинья! — крикнул старик, смеясь. — Вишь, скупой!
Марьяна вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.
— Ла филь! [57] — сказал Ванюша, подмигнув и глупо захохотав.
— Пошел! — сердито крикнул Оленин.
— Прощай, отец! Прощай! Буду помнить тебя! — кричал Ерошка.
Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него.
Поликушка
I
— Как изволите приказать, сударыня! Только Дутловых жалко. Все один к одному, ребята хорошие; а коли хоть одного дворового не поставить, не миновать ихнему идти, — говорил приказчик, — и то теперь все на них указывают. Впрочем, воля ваша.
И он переложил правую руку на левую, держа обе перед животом, перегнул голову на другую сторону, втянул в себя, чуть не чмокнув, тонкие губы, позакатил глаза и замолчал с видимым намерением молчать долго и слушать без возражений весь тот вздор, который должна была сказать ему на это барыня.
Это был приказчик из дворовых, бритый, в длинном сюртуке (особого приказчицкого покроя), который вечером, осенью, стоял с докладом перед своею барыней. Доклад, по понятиям барыни, состоял в том, чтобы выслушивать отчеты о прошедших хозяйственных делах и делать распоряжения о будущих. По понятиям приказчика, Егора Михайловича, доклад был обряд ровного стояния на обеих вывернутых ногах, в углу, с лицом, обращенным к дивану, выслушивания всякой не идущей к делу болтовни и доведения барыни различными средствами до того, чтоб она скоро и нетерпеливо заговорила: «Хорошо, хорошо», — на все предложения Егора Михайловича.
Теперь дело шло о наборе. С Покровского надо было поставить троих. Двое были, несомненно, назначены самою судьбой, по совпадению семейных, нравственных и экономических условий. Относительно их не могло быть колебания и спора ни со стороны мира, ни со стороны барыни, ни со стороны общественного мнения. Третий был спорный. Приказчик хотел отстоять тройника Дутлова и поставить семейного дворового Поликушку, имевшего весьма дурную репутацию, неоднократно попадавшегося в краже мешков, вожжей и сена; барыня же, часто ласкавшая оборванных детей Поликушки и посредством евангельских внушений исправлявшая его нравственность, не хотела отдавать его. Вместе с тем, она не хотела зла и Дутловым, которых она не знала и никогда не видала. Но почему-то она никак не могла сообразить, а приказчик не решался прямо объяснить ей того, что ежели не пойдет Поликушка, то пойдет Дутлов. «Да я не хочу несчастья Дутловых», — говорила она с чувством. «Ежели не хотите, то заплатите триста рублей за рекрута», — вот что надо было бы отвечать ей на это. Но политика не допускала этого.
Итак, Егор Михайлович уставился спокойно, даже прислонился незаметно к притолоке, но храня на лице подобострастие, и стал смотреть, как у барыни шевелились губы, как подпрыгивал рюш на ее чепчике вместо с своею тенью на стене под картинкой. Но он вовсе не находил нужным вникать в смысл ее речей. Барыня говорила долго и много. У него сделалась зевотная судорога за ушами; но он ловко изменил это содрогание в кашель, закрывшись рукою и притворно крякнув. Я недавно видел, как лорд Пальмерстон сидел, накрывшись шляпой, в то время, как член оппозиции громил министерство, и, вдруг встав, трехчасовою речью отвечал на все пункты противника; я видел это и не удивлялся, потому что нечто подобное я тысячу раз видел между Егором Михайловичем и его барыней. Боялся ли он заснуть, или показалось ему, что она уж очень увлекается, он перенес тяжесть своего корпуса с левой ноги на правую и начал сакраментальным вступлением, как всегда начинал: