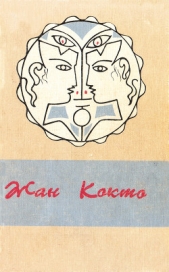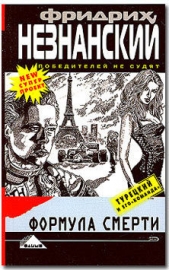Собрание сочинений. Том 4

Собрание сочинений. Том 4 читать книгу онлайн
Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде. Сын священника. Учился на юрфаке МГУ в 1926–1929 годах. Впервые был арестован за распространение так называемого Завещания Ленина в 1929-м. Выйдя в 1932-м, был опять арестован в 1937-м и 17 лет пробыл на Колыме. Вернувшись, с 1957 года начал печатать стихи в «Юности», в «Москве». В его глазах была некая рассеянная безуминка неприсутствия. Наверно, потому что он в это время писал свои «Колымские рассказы» и даже на свободе продолжал оставаться там, на Колыме. Эти рассказы начали ходить из рук в руки на машинке года с 1966-го и вышли отдельным изданием в Лондоне в 1977 году. Шаламова заставили отречься от этого издания, и он написал нечто невразумительно-унизительное, как бы протестуя. Он умер в доме для престарелых, так и не увидев свою прозу напечатанной. (Она вышла в СССР лишь в 1987-м.) Это великая «Колымиада», показывающая гениальное умение людей сохранить лик своей души в мире лагерного обезличивания. Шаламов стал Пименом Гулага, но и добру внимая отнюдь неравнодушно, и написал ад изнутри, а вовсе не из белоснежной кельи.
В четвертый том Собрания сочинений В.Т. Шаламова вошли, автобиографическая повесть о детстве и юности «Четвертая Вологда», антироман «Вишера» о его первом лагерном сроке, эссе о стихах и прозе, а также письма к Б.Л. Пастернаку и А.И. Солженицыну.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я говорю следователю: если вы считаете, что я эсер, то должны знать, что я никого назвать не могу. А если вы считаете, что я не эсер, то должны мне верить, что я ни в каких организациях не состою.
Будущее Андреева заботило мало. Ссылку дадут лет пять. Куда-нибудь к Нарыму. И верно — эсеров всех собирали на Дудинке.
Для меня история партии эсеров всегда была полна особого интереса. В этой партии были, бесспорно, собраны — десятилетиями собирались — лучшие люди России по своим человеческим качествам: самые смелые, самые самоотверженные — лучший человеческий материал. Но история пошла по другому пути, и все жертвы — многочисленные, тяжелые, кровавые жертвы наследников «Народной воли» оказались напрасными. Вот рухнул царизм, который эсеры подтачивали, с которым боролись героически, а места в жизни эсерам не нашлось. Эта глубочайшая трагедия нашего русского времени заслуживает уважения, внимания.
Был в камере и другой старый эсер — Жаров или Жиров, сидевший молчаливо. Только один раз он выступил вперед. За что-то камера была лишена «лавочки» — это ударило прежде всего курильщиков. Жаров, у которого скопились «краснокрестные» папиросы, молча вынес их на обеденный стол. Положил и отошел.
Андреев видел многое ясно, четко. Ошибался он в одном. Ему хотелось видеть за массовыми арестами, за террором, за репрессиями живую Россию, встающие на борьбу молодые силы, и он не верил, что враги — выдуманные, что гекатомбы невинных трупов — лишь мостик, залитый кровью, по которому начал свой путь к власти Сталин. Андреев верил в Россию и ошибался. Репрессии, самые тяжелые, были направлены против невинных людей — и в этом была сила Сталина. Любая политическая организация, если бы она существовала и обладала тысячной частью того, что ей приписано, смела бы власть в две недели. Сталин знал это лучше кого-нибудь другого.
А разочарование, обида, ужас были велики. По комнате ходил, переваливаясь, медведеобразный огромный человек со следами оспы на темном лице, с густой шапкой русых волос, в черном полувоенном костюме без пояса. Пальцы его были сцеплены, руки закинуты за голову. Он ходил от параши до решетчатого окна. Вытянув руки, Алексеев вцепился пальцами в оконную решетку и прижался к решетке лицом. Это был Гавриил Алексеев.
— Смотрите, — сказал Андреев, — первый чекист!
Да, Алексеев был чекистом когда-то. Да, формула Андреева была лаконична и верна. Гавриил Алексеев, вцепившийся руками в тюремную решетку, был символом времени. (Потом были символы и пострашнее — вроде кедровского письма, судьбы Постышева, но была ведь весна тридцать седьмого года.)
Алексеев был солдатом-артиллеристом, участником октябрьских боев в Москве, где командовал Николай Муралов, расстрелянный в тридцатых годах. После переворота Алексеев поработал в ЧК у Дзержинского, работа чекиста не пришлась ему по сердцу. Участились припадки эпилепсии — о прошлом стало рассказывать опасно: на занятиях политкружка Алексеева учили, что Муралова и на свете не существовало. Алексеев поступил начальником пожарной команды в Наро-Фоминск и там был внезапно арестован и привезен в Москву.
— О чем тебя спрашивают? О Муралове?
— Нет. О брате.
Оказалось, что брат Алексеева, по фамилии Егоров, был начальником школы ЦИКа — начальником охраны Кремля.
Я высказал предположение об аресте брата. Алексеев рассердился. Увы, следующий допрос показал, что я был прав.
— Мой же товарищ, сослуживец, — говорил экспансивный Арон Коган, — на очной ставке подтвердил всё, что наврал. Подлец! Я думал, что убью его.
Такие случаи часты, увы.
— Вы встретитесь спокойно, — предположил я, — и ты будешь с ним разговаривать.
Так и случилось во время одного из допросов.
— Я ехал с ним вместе в «вороне». И сердца своего не поднял против него, — говорил грустно Арон.
Тюрьма — это великая проба. Много неожиданного открывает она в характере человека хорошего, а больше — плохого.
Если об Алексееве можно было сказать, что он был первым чекистом, то что сказать об Аркадии Дзидзиевском — герое гражданской войны на Украине. В процессах Вышинский упоминал эту фамилию. Дзидзиевский вошел в камеру, большерукий, широкоплечий, большеголовый, седой. Он пришел из одиночки — несколько месяцев он просидел там. В левой его руке было три разноцветных платочка. Он всё время судорожным движением пальцев то разматывал, то встряхивал, то складывал эти платочки.
— Это — мои дети, — сказал, глядя мне прямо в лицо слезящимися светло-голубыми глазами со склеротическими прожилками. — Меня ведь не переведут отсюда, — толстой старческой рукой он ухватил мою руку. — Здесь хорошо, здесь — люди.
— Нет, не переведут. В Бутырках ведь не держат смертников. Вы…
— Я не боюсь смерти. Спроси любого — у нас знают Аркадия. Но все эти бумажные кляузы… Записи… Допросы… Что же это, а?
— Вы кто, дядя? Чем занимались? — подошел скучающий Леня Туманский, паренек лет шестнадцати.
— Чем я занимался? — спросил Дзидзиевский, и толстые пальцы его раскрылись, ловя воздух. — Буржуев бил.
— А сейчас, значит, самого…
— Да вот, как видишь.
— Ничего, дядя, — сказал Лёня, — всё будет хорошо. Всё скоро кончится.
Лёне тюрьма открыла свет. Шестнадцатилетний неграмотный крестьянин Тумского района Московской области был уличен в том же роде деятельности, что и чеховский «злоумышленник»: Лёня отвинчивал гайки от рельсов на грузила к неводу и, как чеховский герой, отвинчивал «с умом» — по одной.
Сейчас ему грозила статья не простая — следователь хотел быть не хуже других в розысках врагов народа. Лёне «клеили» вредительство, да еще старались нащупать связи с заграницей или с троцкистами.
Счастье Лёни было в том, что он сидел в первой половине года. Во второй половине тридцать седьмого года из него попросту выбили бы всё, что нужно, — и английский шпионаж, и троцкистскую разведку. А может быть, и не выбили бы.
Много шло споров в тюрьме. Арон Коган, помню, развивал такую теорию, что, дескать, рабочий класс в целом, как социальная группа, бесспорно тверже интеллигенции, качающейся, непоследовательной, излишне гибкой социальной прослойки. Но отдельный представитель этой прослойки, интеллигент-одиночка, способен благодаря силе своего духа, моральным качествам на больший героизм, чем отдельный представитель рабочего класса.
Я возражал и говорил, что, увы, по моим наблюдениям, в лагере интеллигенты не держатся твердо. 1938 год показал, что пара плюх или палка — наиболее сильный аргумент в спорах с сильными духом интеллигентами. Рабочий или крестьянин, уступая интеллигенту в тонкости чувств и стоя ближе в своем ежедневном быту к лагерной жизни, способен сопротивляться больше. Но тоже не бесконечно.
Еда в тюрьме была такая, что Лёне и не снилось. Он послушал «лекции», научился читать и рисовать печатные буквы. Лёня хотел, чтобы следствие длилось бесконечно, чтобы не надо было возвращаться в голодную тумскую деревню. Лёня располнел нездоровой тюремной полнотой, кожа его побледнела, щеки обвисли, но он и слушать не хотел ничего о пищевом рационе.
Напротив меня лежал Мелик-Иолквиян, легкий восточный человек неопределенных лет. Хорошо грамотный, вежливый, Мелик числился историком Бухары, а в действительности был «другом дома» кого-то из «больших людей». Кого именно — установить было нельзя. Важно то, что когда умер Орджоникидзе (никто в камере не высказал предположения о самоубийстве), то долго, около двух недель, не назначали преемника. В 68-й камере (споры) выглядели тотализатором. Называлось несколько фамилий. А Мелик сказал неожиданно:
— Вы все не правы. Назначен будет Межлаук Валериан Иванович. Поработает недолго и будет снят. И Сталин скажет Молотову — это твой кандидат, последний раз тебя слушаю.
Пришел человек со свежими новостями: назначен Межлаук.
Паровозному машинисту Васе Жаворонкову был задан преподавателем на занятиях политкружка вопрос:
— Что бы вы сделали, товарищ Жаворонков, если бы советской власти не было?