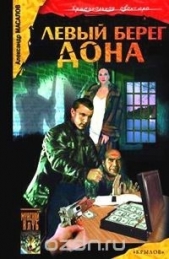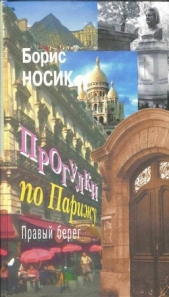Левый берег

Левый берег читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Любовь не вернулась ко мне. Ах, как далека любовь от зависти, от страха, от злости. Как мало нужна людям любовь. Любовь приходит тогда, когда все человеческие чувства уже вернулись. Любовь приходит последней, возвращается последней, да и возвращается ли она? Но не только равнодушие, зависть и страх были свидетелями моего возвращения к жизни. Жалость к животным вернулась раньше, чем жалость к людям.
Как самый слабый в этом мире шурфов и разведочных канав, я работал с топографом – таскал за топографом рейку и теодолит. Бывало, что для скорости передвижения топограф прилаживал ремни теодолита за свою спину, а мне доставалась только легчайшая, раскрашенная цифрами рейка. Топограф был из заключенных. С собой для смелости – тем летом было много беглецов в тайге – топограф таскал мелкокалиберную винтовку, выпросив оружие у начальства. Но винтовка нам только мешала. И не только потому, что была лишней вещью в нашем трудном путешествии. Мы сели отдохнуть на поляне, и топограф, играя мелкокалиберной винтовкой, прицелился в красногрудого снегиря, подлетевшего рассмотреть поближе опасность, увести в сторону. Если надо – пожертвовать жизнью. Самочка снегиря сидела где-то на яйцах – только этим объяснялась безумная смелость птички. Топограф вскинул винтовку, и я отвел ствол в сторону.
– Убери ружье!
– Да ты что? С ума сошел?
– Оставь птицу, и все.
– Я начальнику доложу.
– Черт с тобой и с твоим начальником.
Но топограф не захотел ссориться и ничего начальнику не сказал. Я понял: что-то важное вернулось ко мне.
Не один год я не видел газет и книг и давно выучил себя не сожалеть об этой потере. Все пятьдесят моих соседей по палатке, по брезентовой рваной палатке, чувствовали так же – в нашем бараке не появилось ни одной газеты, ни одной книги. Высшее начальство – прораб, начальник разведки, десятник – спускалось в наш мир без книг.
Язык мой, приисковый грубый язык, был беден, как бедны были чувства, еще живущие около костей. Подъем, развод по работам, обед, конец работы, отбой, гражданин начальник, разрешите обратиться, лопата, шурф, слушаюсь, бур, кайло, на улице холодно, дождь, суп холодный, суп горячий, хлеб, пайка, оставь покурить – двумя десятками слов обходился я не первый год. Половина из этих слов была ругательствами. Существовал в юности, в детстве анекдот, как русский обходился в рассказе о путешествии за границу всего одним словом в разных интонационных комбинациях. Богатство русской ругани, ее неисчерпаемая оскорбительность раскрылась передо мной не в детстве и не в юности. Анекдот с ругательством выглядел здесь как язык какой-нибудь институтки. Но я не искал других слов. Я был счастлив, что не должен искать какие-то другие слова. Существуют ли эти другие слова, я не знал. Не умел ответить на этот вопрос.
Я был испуган, ошеломлен, когда в моем мозгу, вот тут – я это ясно помню – под правой теменной костью – родилось слово, вовсе непригодное для тайги, слово, которого и сам я не понял, не только мои товарищи. Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности:
– Сентенция! Сентенция!
И захохотал.
– Сентенция! – орал я прямо в северное небо, в двойную зарю, орал, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. А если это слово возвратилось, обретено вновь – тем лучше, тем лучше! Великая радость переполняла все мое существо.
– Сентенция!
– Вот псих!
– Псих и есть! Ты – иностранец, что ли? язвительно спрашивал горный инженер Вронский, тот самый Вронский. «Три табачинки».
– Вронский, дай закурить.
– Нет, у меня нету.
– Ну, хоть три табачинки.
– Три табачинки? Пожалуйста.
Из кисета, полного махорки, извлекались грязным ногтем три табачинки.
– Иностранец? – Вопрос переводил нашу судьбу в мир провокаций и доносов, следствий и добавок срока.
Но мне не было дела до провокационного вопроса Вронского. Находка была чересчур огромной.
– Сентенция!
Псих и есть.
Чувство злости – последнее чувство, с которым человек уходил в небытие, в мертвый мир. Мертвый ли? Даже камень не казался мне мертвым, не говоря уже о траве, деревьях, реке. Река была не только воплощением жизни, не только символом жизни, но и самой жизнью. Ее вечное движение, рокот неумолчный, свой какой-то разговор, свое дело, которое заставляет воду бежать вниз по течению сквозь встречный ветер, пробиваясь сквозь скалы, пересекая степи, луга. Река, которая меняла высушенное солнцем, обнаженное русло и чуть-чуть видной ниточкой водной пробиралась где-то в камнях, повинуясь извечному своему долгу, ручейком, потерявшим надежду на помощь неба – на спасительный дождь. Первая гроза, первый ливень – и вода меняла берега, ломала скалы, кидала вверх деревья и бешено мчалась вниз той же самой вечной своей дорогой…
Сентенция! Я сам не верил себе, боялся, засыпая, что за ночь это вернувшееся ко мне слово исчезнет. Но слово не исчезало.
Сентенция. Пусть так переименуют речку, на которой стоял наш поселок, наша командировка «Рио-рита». Чем это лучше «Сентенции»? Дурной вкус хозяина земли – картографа ввел на мировые карты Рио-риту. И исправить нельзя.
Сентенция – что-то римское, твердое, латинское было в этом слове. Древний Рим для моего детства был историей политической борьбы, борьбы людей, а Древняя Греция была царством искусства. Хотя и в Древней Греции были политики и убийцы, а в Древнем Риме было немало людей искусства. Но детство мое обострило, упростило, сузило и разделило два этих очень разных мира. Сентенция – римское слово. Неделю я не понимал, что значит слово «сентенция». Я шептал это слово, выкрикивал, пугал и смешил этим словом соседей. Я требовал у мира, у неба разгадки, объяснения, перевода… А через неделю понял – и содрогнулся от страха и радости. Страха – потому что пугался возвращения в тот мир, куда мне не было возврата. Радости – потому что видел, что жизнь возвращается ко мне помимо моей собственной воли.
Прошло много дней, пока я научился вызывать из глубины мозга все новые и новые слова, одно за другим. Каждое приходило с трудом, каждое возникало внезапно и отдельно. Мысли и слова не возвращались потоком. Каждое возвращалось поодиночке, без конвоя других знакомых слов, и возникало раньше на языке, а потом – в мозгу.