На дне. Избранное (сборник)
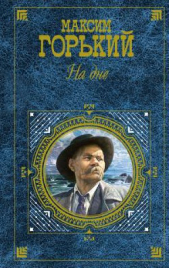
На дне. Избранное (сборник) читать книгу онлайн
Максим Горький (псевдоним Алексея Максимовича Пешкова; 1868–1936) — едва ли не самый известный и вместе с тем самый непрочитанный писатель XX века. Его творческое наследие огромно и разнообразно. В этом томе, составленном на основе современных школьных программ по литературе, перед читателями предстанет разноликий Горький — не только автор самобытной прозы и драматург, но и поэт, а также публицист. Возможно, те, кто окончил школу в советские времена, уже вместе со своими детьми откроют для себя новый образ этого художника слова — способного не только вовремя выпустить пропагандистский роман Мать, но и прозревавшего сокровенные тайны человеческой натуры и людского сообщества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это бывает! Бегут тучи, а между них — луна, и всё небо — вздрагивает, будто ломается…
Тиунов замолчал, а Сима тихонько прибавил:
— Я назвал небо-то однооким — забыл про вас, ей-богу!
— Ничего! — сказал кривой.
— Дальше у меня так идут стихи:
— Всё ты да ты! — вдруг заговорил Тиунов. — Ты, да я, да сватья, — только и знатья! Да голодное житье, да смерть!
Юноше очень хотелось рассказывать Тиунову свои стихи, но кривой, видимо, не хотел слушать: помахивал палочкой, он тихонько шагал и говорил:
— Всё это, конечно, действует в жизни — и бедность есть и смерть, а людей, однако, не одолевает! И дедушка мой голодал, и отец голодал, а и сам я не больно сытно живу. И они — померли, и я помру — верно!
Вспоминая свои стихи, Сима не ответил.
— Ну, помру, и — ни синь пороха после меня не останется! — убедительно говорил Тиунов. — Злодей помрет — люди скажут: ах, какой злодей был! Добрый помрет — добром помянут. Бывает — и собаку дохлую жалко людям. Кошек тоже часто вспоминают: хорош, дескать, зверь был, умный или там — ласковый, мышей ловко хватал. А помрут Яков Тиунов, Семен Девушкин — и никто ничего не скажет. Были мы али нет — это всем всё равно. Вот ты бы о чем подумал, малый, об этом вот! Да! Подумай! Дело — важное! Ты — человечек одинокий, а одинокие-то люди и есть самые лучшие, верные слуги миру.
Сима — молчал. Ровная и мягкая речь кривого не мешала смутным мыслям юноши искать нужных слов.
— А ты будь нужен людям не столь в горе, сколько в радости, ты их с радостью полюби! Горе, малый, дешево! В нем — как арестанты в серых халатах своих — все людишки одинаковы: ни дворяне, ни мещане не отличны. А ты — в радость иди, покажи людям радость — птицу редкую, птицу райскую — вот! Вот у тебя есть — скажем — талан, ты его серьезно полюби! Надо, брат, всё полюбить: инструмент, которым работаешь, — долото, например, — и его полюби тоже! Оно тебя поймет, хоть и железо, а — полюбив твою руку — оно тебе в работе сильно может помочь.
— складывалось в голове Симы. Он спотыкался и простирал вперед прямые, длинные руки:
В сумраке души, в памяти, искрами вспыхивали разные слова, кружились, как пчелы, одни исчезали, другие соединялись живою цепью, слагали песню — Симе было жутко и приятно, тихая радость ласкала сердце.
— Вот, гляди! — задумчиво текла речь кривого. — Живут в России люди, называемые — мещане. Кто их несчастнее? — подумай. Есть — цыгане, они всё бродяжат, по ярмаркам — мужиков лошадями обманывают, по деревням — кур воруют. Может, они и не делают ничего такого, ну, уж так говорится про них. А мещане хоть больше на одном месте трутся — но тоже самые бесполезные в мире жители…
Юноша, глядя вперед бездонным взглядом круглых глаз, шаркал ногами по земле, и ему казалось, что он легко поднимается в гору.
Вдали, над темной гривой Чернораменского леса, поднялась тяжелая туча и гасила звезды. Огонь костра взыграл ярче, веселее.
— Мне, малый, за пятый десяток года идут, и столько я видел — в соборе нашем всего не сложишь, на что велик храм! Жил я — разно, но больше — нехорошо жил! И вот, после всего, человеческое мое сердце указывает: дурак, надобно было жить с любовью к чему-нибудь, а без любови — не жизнь!
Сима, улыбаясь, сочинял:
Он остановился и радостно вскричал, схватив кривого за рукав:
— Яков Захарович, а я сейчас еще стихи сочинил, ей-богу, вот только сейчас! Слушайте!
Когда он сказал стихи свои, кривой ткнул в лицо ему темный свой глаз и одобрительно заметил:
— Ну вот! Ишь ты ведь…
— Ах, господи! — тихонько воскликнул Сима. — Это такая, знаете, радость, когда сочинишь что-нибудь, даже плакать хочется…
— И хорошо. Именно это миру и надобно — радость! А пора нам повернуть — эко, сколь места отхватали!
Повернули. Идти стало светлее — тени легли сзади, пошли ближе друг к другу.
— Главное, малый, — раздавался в тишине ночи спокойный голос Тиунова, — ты люби свою способность! Сам ты для себя — вещь неважная, а способность твоя — это миру подарок! Насчет бога — тоже хорошо, конечно! Однако и пословицу помни: бог-то бог, да и сам не будь плох! А главнейше — люби! Без любви же человек — дурак!
Их догоняла предвестница осени, тяжелая черная туча, одевая поле и болото бархатом тени, а встречу им ласково светил полный круг луны.
— Эх, Семен, Семен! — вздрагивал глуховатый голос Тиунова. — Сколько я видел людей, сколько горя постиг человеческого! Любят люди горе, радость — вдвое! И скажу тебе от сердца слово — хорош есть на земле русский народ! Дикий он, конечно, замордованный и весьма несчастен, а — хорош, добротный, даровитый народ! Вот — ты погляди на него пристально и будешь любить! Ну, тогда, брат, запоешь!
Сима улыбался, толкая кривого острым плечом. Помолчав, Тиунов убедительно прибавил:
— Хорош народ! И — аминь!
Рыжая девица Паша несла в «раишке», кроме специального труда, обязанности горничной: кухарка будила ее раньше всех, и Паша должна была убирать зал — огромную, как сарай, комнату с пятью стрельчатыми окнами; два из них были наглухо забиты и завешены войлочным крашеным ковром.
Потолок зала пестро расписан гирляндами цветов, в них запутались какие-то большеголовые зеленые и желтые птицы и два купидона: у одного слиняло лицо, а у другого выкрошились ноги и часть живота.
Матрена Пушкарева, кухарка, сообщила Паше, что потолок расписывал пленный француз в двенадцатом году, и почти каждое утро Паша, входя в зал с веником и тряпками в руках, останавливалась у дверей и, задрав голову вверх, серьезно рассматривала красочный узор потолка, покрытый пятнами сырости, трещинами и копотью ламп.
Иногда Матрена окликала ее:
— Ты что, лешая, опять вытаращила буркалы? Убирай скорее, встают уж все…
Улыбаясь, Паша отвечала:
— Сейча-ас! Уж больно француз этот ловок! И как он писал, тетя? Не иначе — лежа надо было писать ему, ай?
Матрена сердилась.
— Тебе бы всё лежа и жить! Погоди, околеешь — пролежишь, толстомясая, до косточек бока-то твои!
— Где-то он теперь, французик бедненький? — вздыхая, мечтала Паша.
Часто бывало так, что, любуясь работой француза, девушка погружалась в дремотное самозабвение, не слышала злых криков хозяйки и подруг; тогда они, сердитые с похмелья, бросались на нее, точно кошки на ворону, и трепали девицу, вытирая ее телом пыль и грязь зала.
Когда Пашу били — она не сопротивлялась, а только пыхтела, закрыв глаза; уставали бить ее — она плакала и жаловалась не сразу: сначала посмотрит, где и как на ней разорвана одежда, потом уходит на двор и там начинает густо, басом, выть и ругаться.
На ее рев с улицы в калитку высовывалась огромная голова Четыхера, он долго слушал жалобы Паши молча, наконец они ему, видимо, надоедали — тогда привратник пренебрежительно убеждал ее:


























