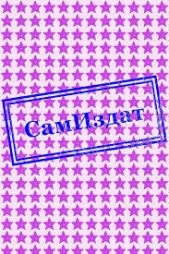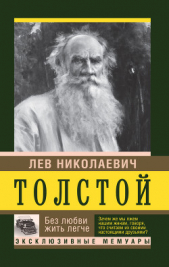Воспоминания

Воспоминания читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
VI
Третье и самое важное [лицо] в смысле влияния на мою жизнь была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушке. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили, девочек же решили взять на воспитание знаменитая в своем кругу в Чернском уезде и в свое время властная и важная Тат. Сем. Скуратова и моя бабушка. Свернули билетики, положили под образа, помолившись, вынули, и Лизанька досталась Татьяне Семеновне, а черненькая - бабушке. Таненька, как ее звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году, воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и вместе с тем самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событие с линейкой, про которое она рассказывала нам, показывая большой, чуть не в ладонь, след обжога на руке между локтем и кистью. Ови детьми читали историю Муция Сцеволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать того же. "Я сделаю", сказала она. "Не сделаешь", - сказал Языков, мой крестный отец, и, что тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. "Вот приложи это к руке", - сказал он. Она вытянула белую руку, тогда девочки ходили всегда декольте, - и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки. Застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидали ее рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола.
Такая она была во всем решительная и самоотверженная. Должно быть, она была очень привлекательная с своей жесткой черной курчавой, огромной косой и агатово-черными глазами и оживленным, энергическим выражением. В. И. Юшков, муж тетки Пелагеи Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви, вспоминал про нее: "Toinette, oh, elle etait charmante" [Туанетта, о, она была очаровательна (франц.)]. Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую, маленькую руку с энергической поперечной жилкой.
Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. В ее бумагах, в бисерном портфельчике, лежит следующая, написанная в 1836 году, 6 лет после смерти моей матери, записка:
"16 Aout 1836. Nicolas m'a fait aujourd'hui une etrange proposition celle de l'epouser, de servir de mere a ses enfants et de ne jamais les quitter. J'ai refuse la premiere proposition, j'ai promis de remplir l'autre tant que je vivrai" [16 августа 1836. Николай сделал мне сегодня странное предложение - выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива (франц.)].
Так она записала, но никогда ни нам, никому не говорила об этом. После смерти отца она исполнила второе его желание. У нас были две родные тетки и бабушка. Все они имели на нас больше прав, чем Татьяна Александровна, которую мы называли тетушкой только по привычке, так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его, но она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место. И мы чувствовали это. И у меня бывали вспышки восторженно умиленной любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было лет пять, я завалился за нее, она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней.
Она была воспитана барышней богатого дома - говорила и писала по-французски лучше, чем по-русски, прекрасно играла на фортепьяно, но лет 30 не дотрогивалась до фортепьяно. Она стала играть только уже, когда я взрослым учился играть, и иногда, играя в четыре руки, удивляла меня правильностью и изяществом своей игры. К прислуге она была добра, никогда сердито не говорила с ней, не могла переносить мысли о побоях или розгах, но считала, что крепостные - крепостные и обращалась с ними, как барыня. Но, несмотря на то, ее, отличая от других, любили все люди. Когда она скончалась и ее несли по деревне, из всех домов выходили крестьяне и заказывали панихиду. Главная черта ее была любовь, но как бы я ни хотел, чтобы это было иначе - любовь к одному человеку - к моему отцу. Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась и на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что вся жизнь ее была любовь. Она имела по своей любви к нам наибольшие права на нас, но родные тетки, особенно Пелагея Ильинична, когда она нас увезла в Казань, имела внешние права, и она покорялась им, но любовь ее от этого не ослабевала. Она жила у сестры, гр. Л. А. Толстой, но жила душой с нами и, как только можно было, возвращалась к нам. То, что она последние годы своей жизни, около 20 лет, прожила со мной в Ясной Поляне, было для меня большим счастьем. Но как мы не умеем ценить наше счастье, тем, более что истинное счастье всегда негромко, незаметно. Я ценил, но далеко не достаточно. Она любила у себя в комнате в разных посудинках держать сладенькое: винные ягоды, пряники, финики, и любила покупать и угощать этим первого меня. Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывая ей в деньгах на эти лакомства и как она, грустно вздыхая, умолкала. Правда, я был стеснен в деньгах, но теперь не могу вспомнить без ужаса, как я отказывал ей.
Уже когда я был женат и она начала слабеть, она раз, выждав время, когда мы оба с женой были в ее комнате, она, отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала: "Вот что, mes chers amis [мои дорогие друзья (франц.)], комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней, - сказала она дрожащим голосом, - вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь". Такая она была вся с самых первых времен моего детства, когда еще я не мог понимать ее.
Я сказал, что тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни. Хотя это воспоминание уже не детства, а взрослой жизни, я не могу не вспомнить моей холостой жизни с ней в Ясной Поляне, в особенности осенними и зимними длинными вечерами. И эти вечера остались для меня чудесным воспоминанием.
Комната ее была такая: в левом углу была шифоньерка с бесчисленными вещицами, ценными только для нее, в правом - кивот с иконами и большим, в серебряной ризе, спасителем; посередине диван, на котором она спала, перед ним стол. Направо дверь к ее горничной и другой диван, на котором спала добродушная старушка Наталья Петровна, жившая с ней, не для нее, а потому, что ей негде было жить. Между окном под зеркалом был ее письменный столик с баночками и вазочками, в которых были сладости: пряники, финики, которыми она угощала меня. У окна два кресла, и направо от двери вышитое покойное кресло, на котором она любила, чтобы я сидел, и я часто сидел на этом кресле по вечерам.
Главная прелесть этой жизни была в отсутствии всякой матерьяльной заботы, добрых отношениях ко всем, твердых, несомненно, добрых отношениях к ближайшим лицам, которые никем не могли быть нарушены, и в неторопливости, в несознавании убегающего времени. Этим вечерам я обязан лучшими своими мыслями, лучшими движениями души. Сидишь на этом кресле, читаешь, думаешь, изредка слушаешь ее разговоры с Натальей Петровной или с Дунечкой, горничной, всегда добрые, ласковые, перекинешься с ней словом и опять сидишь, читаешь, думаешь. Это чудное кресло стоит и теперь у меня, но оно уж не то.